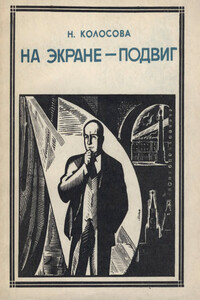Скорина | страница 29
И для него, как для каждого на этой земле, большой, просторный и ясный свет возникал как бы заново, словно прежде-то и света никакого не было. А поскольку Франтишек родился в конце XV столетия, то и свет начинался для него не только как свет белый, но и как свет божий: и мать с отцом ему об этом говорили, и узорчатые летописные письмена из житий святых, и закопченные свечами образа божьей матери в продымленном тесном доме родного отца и в гулких, просторных храмах бога-отца. И когда это свет божий стал для него письменами, а письмена — светом божьим? Не здесь же, на Пражском месте, а там, еще на берегу Двины. Письмена для него перво-наперво открывали мир — все, что было до него, и все, что застал он, придя под солнце. Но письмена эти и как бы закрыли для него весь тот мир — ведь о чем он мыслит и заботится все время, как не единственно об этих письменах?! Будто над кручей, повыше и пообрывистей, нежели та, на которой стоит его родной город и Софея, поставили сейчас Франциска эти письмена. Опасную крутизну берега, обрывающегося у его ног, он особенно почувствовал наутро — ночь спустя после рождения его Псалтыри, на другой день после памятной ему августовской ночевки с ее призраками, сновидениями. Где есть высота, есть внизу и твердь. Твердь не страшна для тех, кто внизу, — а для тех, кто на круче? Падают с круч. Достаточно легкого толчка, если ты на обрыве, и полетишь с него не птицей, потому что руки даже у печатника. — не крылья.
Но все-таки знает ли он, понимает ли, на что идет. И знает, и понимает, как трезво оценивают это и его виленские друзья-меценаты Якуб Бабич, Богдан Онков. Кажется, будь они здесь, рядом с ним, и ощущения берега-кручи даже после такой тревожной ночи с ее видениями у него не возникло бы. С высоты ведь смотрят не под ноги, а перед собой. Перед ним же и перед его бездонно голубыми глазами — вон яснота какая, даль какая! Да и видения — не знамения: они — в человеке, его греза. Хотя... Видение, оно ведь, может, и предостережение божье. Предостережение или только блажь болезненной фантазии? Но ведь он же не болен... Трудно средневековому человеку! Трудно верить и в бога и в сатану, когда тебя и тем и другим пугают. Сатана но страшен доброму человеку, совершенному, с чистыми, словно криница, мыслями, с незамутненными, как роса, помыслами, с душой, открытой свету, как солнцелюбивый цветок. А на его родине так много солнцелюбивых цветов: вьюнок, ромашка, жасмин... Скорина, кажется, даже слышит аромат жасмина. Цветы он очень любит.