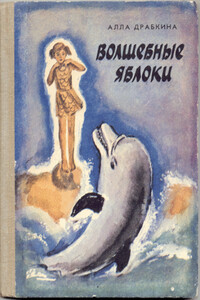Наш знакомый герой | страница 68
— Я видел, что она порченая… Но чтоб настолько? Мерзкая тварь! — искренне, до потери зрения возмутился Сурков.
Но реакция Гусарова опять была неожиданной.
— Она — порченая? Это ты порченый. Это мы оба порченые. Данила, тот хоть честный. Он ей сразу сказал: «На необитаемом острове лучше тебя быть не может». А мы… Я тоже думал о ней в свое время. И тоже о необитаемом острове. Иногда идешь с ней по улице — орет, руками машет, песни поет, все оглядываются… провалиться бы со стыда. А ведь я мог… Мог, а?
— Что — мог?
Гусаров вдруг замолчал, сказал глухо:
— Забудь, что я тут наговорил. Разговор не делает мне чести. Все это так, несерьезно. Я у нее прощения попросил. Но мне страшно. А вдруг она вообще не вернется? Какая Сибирь в ее состоянии? Потому злюсь. Сам виноват. Приручил — и недосмотрел. Она же в дочки мне годится, а я?..
— Да ты-то тут при чем? Ее же тянет в грязь!
— А для нее не существует грязи, — спокойно оборвал его Гусаров. — Она нормальная женщина, а не чурка с глазами.
Вот ведь какой этот Гусаров, сам ругался на чем свет стоит, а Суркову, видите ли, нельзя.
Я ненавижу ее, сказал себе Сурков. И я не ошибся тогда, с первого взгляда. Она ужасна, что бы там ни говорил Гусаров. Сурков не хотел понимать ни ее поступков, ни их причин. Сам он не совершал, подобных поступков, жил размеренно и честно. (Вот куда он только умудрился в те времена запрятать Наденьку?)
И еще вспоминает он теперь одну свою подлую, низкую мысль: ну почему она не соврала? Почему не промолчала? Зачем рассказала, ну, тому же Гусарову? И вот это желание лжи и было его, Суркова, порчей. Гусаров прав: Сурков был человек испорченный, потому что предпочитал ложь. А ведь по долгу службы он должен быть рыцарем истины. Он и был им. На службе. Во имя истины Сурков рисковал жизнью, растрачивал силы и время, работал на износ. Но, может, именно потому в быту ему хотелось тишины и хороших манер? А от новых своих товарищей хороших манер не дождешься. Отсутствие страха перед приличиями роднило Гусарова и Лохматую и отъединяло Суркова.
И теперь зрелый Сурков знает: именно поэтому-то он не смог стать писателем. Он писал! Они не знали об этом только потому, что судили по себе: они-то не могли и не желали утаить хотя бы одно написанное ими слово или рассказ, как не могли утаить правды о себе. А он скрывал, что пишет, так как был достаточно холоден, чтобы понимать — пишет он беспомощно. И беспомощно потому (вот оно, вот оно), что не хочет смотреть правде в глаза. Сталкиваясь по работе со жгучими, вопиющими проблемами, он стыдливо путался в частностях и мелочах, не желая называть вещи своими именами, не рискуя выводить из частного общее и отвечать за это. Он считал, что идет по стопам великой и целомудренной русской литературы, забывая о том, что в свое время эта литература таковой не считалась, а предавалась анафеме.