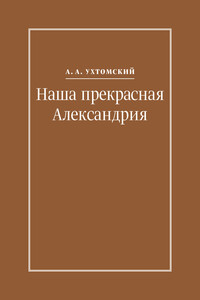Дальнее зрение. Из записных книжек (1896–1941) | страница 52
Откуда, в самом деле, этот замечательный факт, что в великой русской литературе нет «положительных типов»? Когда-то упрекали в этом Гончарова представители молодого лагеря. «Скажу прежде всего, – отвечал Гончаров, – что после Гоголя мы в искусстве не сошли с пути отрицания, между прочим, и потому, что художнику легче даются отрицательные образы. Сам Гоголь пробовал во 2-й части „Мертвых душ“ написать положительный образ и потерпел неудачу. А другие и подавно: в последнее время ни у кого не вышло в этом роде ничего художественного». Отчего вообще у русских нет такого действительно положительного типа, который мог бы отлиться в художественно правдивые формулы? Ведь и у народа нашего это скорее тени людские, чем цельные художественные образы.
Я думаю, что это от самой природы русской, от слабости и вялости воли и деятельности человека. У нас с самого начала безнадежный способ искать «положительных типов», – оттого их и нет. Мы ищем в «положительном типе» чего-то такого, пред чем могли бы преклониться. Следовательно, мы и тут заранее хотим обеспечить себе покой и нирвану «преклонения» пред «положительным типом», но заранее же ограждаем свою слабую волю от необходимости пойти действовать за «типом». Роковое отсутствие положительных типов у нас – это роковое следствие маразма нашей воли. И если мы решимся указать в том-то и том-то наш положительный тип, то заранее стараемся отодвинуть его так далеко от себя, поставить между ним и нами такие преграды, чтобы заранее показалась почти кощунством попытка отождествить с ним нашу волю.
Жизни, требующей разъяснений, – тьма. Того, кто разъясняет, – единицы. Только эти единицы истории – гениальные люди – помогают нам разъяснить жизнь. Очевидно, что нельзя требовать, чтобы гениальный человек занялся исключительно разъяснением моей, вашей жизни, каждого из нас в отдельности. Для этого потребовалось бы по гениальному человеку для каждого из нас.
Оттого эти гении истории и созданное ими «знание», «наука» роковым образом разъясняют жизнь лишь «в общем виде». Для нас, для каждого из нас в частности, остается задача воспользоваться для себя этими «общими» разъяснениями. Но сокровищница, которой, – мы чувствуем, – надо служить, сокровищница общего знания, которую мы несем для будущих людей, – эта наша «наука», – это постепенное «разъяснение жизни в общем виде», – это наша цель, наша лучшая человеческая задача, как бы мало, быть может, ни могли мы внести в нее от себя.