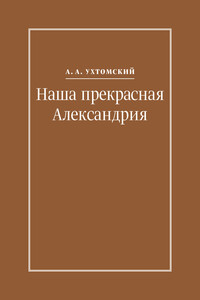Дальнее зрение. Из записных книжек (1896–1941) | страница 128
Каждый из них развил в особенности определенную черту, определенную сторону из манеры восприятия и художественной передачи жизни по Пушкину и Гоголю. Но ни один из них не тронул (или почти не тронул) преданий «Ревизора» или «Мертвых душ». Запомните эту сторону в предании отцов, – специализировать и развить до конца дух «Ревизора» и «Мертвых душ», это было уделом Салтыкова-Щедрина.
Но, в этой специализации до односторонности, Салтыкову стал чужд и непонятен дух того же Гоголя, выразившийся в «Переписке с друзьями», дух святого сомнения в себе, поднявшийся до сожжения сатиры над людьми! Выхода из сатиры у Салтыкова нет – в нем сатира посягает на всех и всё.
«Есть множество средств сделать человеческое существование постылым, но едва ли не самое верное из всех – это заставить человека посвятить себя культу самосохранения» (Салтыков-Щедрин). Таково еретическое сознание Салтыкова-Щедрина в противовес учению наших присяжных естествоведов о принципиальном и провиденциальном значении «инстинкта самосохранения»!
Ограничение человеческой жизни интересами самосохранения, столь основоположительное для солипсической науки, есть признак и вместе причина оскудения жизни!
Одно из самых вещих слов, до которых иногда возвышался в своей скорби Салтыков-Щедрин, следующее: «Действительное единение с народом по малой мере столь же мучительно, как и сдирание с живого организма кожи ради осуществления исторических утешений. Не призыва требует народ, а подчинения, не руководительства и ласки, а самоотречения. В такие минуты к этому валяющемуся во тьме и недугах миру нельзя подойти иначе, как предварительно погрузившись в ту же самую тьму и болея тою же самою проказою, которая грозит ее истребить». Это возможно исключительно в единении через Христово предание по завету древней русской церкви! Никаких других «рецептов» нет и быть не может!
Средний, стадный человек, о котором наш сатирик говорит только как о том неизбежном балласте общества, которого волей-неволей придется коснуться всякому борцу, – этот средний человек «чечевичной похлебки», на котором сумели «сыграть» товарищи Ленины, он всегда был и доступен, и любим, и сам по себе одинаково интересен наравне с прочими человеческими типами, – для христианского сознания.
Для одних он в лучшем случае презираемое быдло, которым приходится пользоваться, дабы овладеть жизнью; для других – это пушечное мясо; для третьих – объект для спекулятивных обработок. Только для христианства это все та же нива Христова, из которой могут выйти граждане царствия, далеко опережающие.