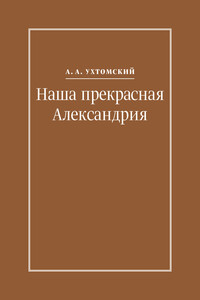Дальнее зрение. Из записных книжек (1896–1941) | страница 107
Формальная логика в таком освещении является лишь затем, чтобы по возможности точно переводить на язык понятий и рассуждений то, что улавливается в полузнакомой и своими законами живущей речи событий и Бытия.
Интуиция раньше, принципиальнее и первоосновнее, чем буква.
Было бы односторонне-предвзято и ошибочно рисовать себе дело так, что лишь восприятие и оценка данного происходят интуитивно, тогда как проект предстоящего слагается уже «логически» и дискурсивно. Наиболее живые и чаще всего безошибочные проекты возникают так же интуитивно, как оценка данного.
Наташа Ростова отчетливо чувствовала и, как она говорила, «знала», что ее брат Николай не женится на Соне. А он возражал весьма основательно, что «этого ты никак не знаешь». Кто же «знает» будущее, которого еще нет? В данном случае Николай стоял за права дискурсии и формальных оснований знания, без которого оно и невозможно… Однако у интуитивного проектирования есть свои права также! Они в наглядной безошибочности.
С глубочайшей проницательностью автор < Спиноза > ставит в край угла и во главу философии этику, понимая, что это не «прикладное знание», не «применение теории на практике», но само цельное знание в своих основных побудительных импульсах и осуществлении. Главнейшим физиологическим органом познавания-предвидения является совесть. Это тот конкретнейший аппарат цельного знания, который руководит нами обыденно – и в мелочах, и в крупном. Но совесть, как и всякий другой показатель и отметчик реальности, с ее законами, может быть более или менее надежным слугою, более или менее субъективной или объективной, более или менее здравой или заболевшей! Она ведь может быть совершенно спокойной, удовлетворенной и ни о каких бедах не предупреждающей, в то время как человек или целое общество давно охвачены преступлением! Это тогда, когда преступление стало привычным! Значит, и здесь ни в коем случае не успокоение и не удовлетворение является критерием или признаком Истины; и реальная, невыдуманная Истина может быть в действительности наибольшей неожиданностью и источником тревоги для нас, настоящим Судом для всего того, что мы считаем за правду и что есть мы сами!
По возвращении из первого путешествия Л. Н. Толстой пишет (1857): мой камень преткновения есть тщеславие либерализма. По возвращении из второго он отмечает, что привилегированное общество не имеет никакого права воспитывать по-своему народ, который чужд ему (1862)… Толстой возмущается тем, что либералы злоупотребляют словами – народ, воля народа. Да и что они знают о народе? Что такое народ?.. Член самого деспотического народа может быть вполне свободен, хотя может подвергнуться жестоким насилиям… Член же конституционного государства всегда раб, потому что, воображая, что он участвовал в своем правительстве, он признает законность всякого совершаемого над ним насилия… В последнее время легкомысленные люди русского общества стараются привести русский народ к тому конституционному рабству, в котором находятся европейские народы!