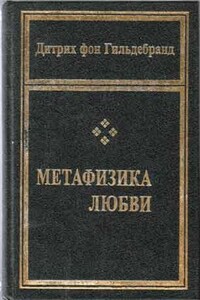Дальнее зрение. Из записных книжек (1896–1941) | страница 101
Повторяя, что все изменяется и перевоспитывается условиями жизни, не могут не задумываться над тем, что и пролетарии, попав в положение правителей, давным-давно переродились в типичных правителей со всеми профессиональными пороками.
Завлекают людей обещаниями тихого уюта или торжественной славы, дабы их усилиями разбить тихий уют и славу других на том основании, что они уже развращены этими обстановками, а вновь привлекаемые сюда еще не успели развратиться! И г. Горький не понимает, что можно искренно отбросить от себя искание уюта и славы, как перерождающих людей в род глухой и немой!
Очень важный общий вопрос об отношении реформы-революции к исторической эволюции. Если смотреть на историческую перспективу с расстояния и в очень широких масштабах, то история всегда представляется эволюцией, развивающейся логикой событий, преемственным преданием. Присутствие в этой реке «реформ-революций», как некоторых скачков, не изменяет дела.
Поэтому противопоставлять «мир эволюции» – революции, как борьбе и войне, – это дело, не вытекающее из природы вещей и имеет особый, вполне специфический смысл: противопоставления фаталистического безразличия и оппортунизма в морали настроению трудничества и борьбы от сердца, которым дышали пророки.
Надо хорошо различать эта два подхода в противопоставлении эволюции и «революции-реформы»!
Бесконечно трагический человеческий документ, требующий Шекспира для своей разработки, это «Дневники» С. А. Толстой (Издание Сабашниковых. «Записи прошлого». 1928). Вот хочу сказать: «Audiatur et altera pars». Каково бедному, доброму, простому ближнему, когда связанный с ним прекрасный представитель человеческого рода бросается из одной установки в другую! Несравненный рационалистический покой собеседования с дальним в «Войне и мире»; порыв к жене; ропот к дальнему в «Анне Карениной»; порыв к народу, попытка влиться в его жизнь и предание; новый рационалистический приступ в религиозно-философских писаниях; учительство; осуждение; уход… Где тут можно утешиться бедному ближнему и что ему надо делать, когда он убивается и забывается ради великих задач собеседования с дальним? Утешение разве только в милой человеческой записке карандашом, составленной на полях жениного дневника: «Ничего не надо, кроме тебя. Левочка все врет!» В чем та правда, которая чувствуется за этой карандашной записью одного из правдивейших пред собою писателей и мыслителей, каких знала земля? В том, конечно, что и писательство, и метафизика, и атомы, и хождение в народ – все ложь и ничтожество, если нет главного и насущного: исполнения обязательств пред данным тебе, наличным, конкретным ближним со всей его материей, инерцией, недостатками. <…> И все это нужно и приобретает новый, обновленный, живой смысл в свете исключительных обязательств к ближнему. Нельзя перепрыгнуть через ближнего к дальнему. Воображаемому, едва мерцающему в теряющихся очерках дальнему нет доступа иначе как через материального, конкретного, вседневного ближнего и ближних.