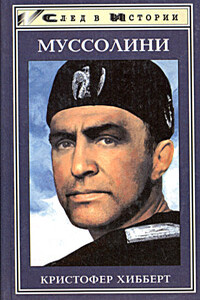Диктаторы в зеркале медицины | страница 16
При этом он лично заботился о тем, чтобы все его если и не уважали, то хотя бы боялись. Поведение выскочки и все более высокомерные манеры явно свидетельствовали о скрытой неуверенности. Современник, живший в Риме, писал: «Вы не можете представить, с какой спесью и высокомерием он меня принимал. Он поклялся жизнью и смертью, что взойдет на Капитолий. При этом он в гневе зубами разорвал документ, который держал в руке». Было это действительным проявлением буйного темперамента, или он специально решил произвести впечатление на собеседника и нагнать на него страху, остается неясным. Столь же высокомерную и бурную манеру вести себя он проявил и по отношению к французским дипломатам, когда воскликнул примерно следующее: «То, что я сделал до сих пор, ничего не значит. Моя карьера только начинается».
И действительно, он на собственный страх и риск двинулся на Вену, дошел до Земмеринга, после чего 18 апреля 1797 года заключил Леобенское перемирие, а затем 17 октября 1797 года заключил мирный договор в Кампоформио — опять же самоуправно и вопреки намерениям Директории. Этим он дал понять «адвокатам, сидящим в Директории», что не намерен далее следовать их указаниям: «Я почувствовал вкус к власти и уже не могу от нее отказаться». Жажда славы и власти — одна из главных сил, двигавших Бонапартом в его грядущих свершениях, раз и навсегда пробудилась к жизни. Пусть даже достигнутое еще далеко его не удовлетворяло, но, покидая Италию, он в разговоре с Бурьеном все же высказал определенную удовлетворенность: «Еще пара таких походов, и скромное местечко в памяти потомков нам обеспечено».
Известная и довольно умная мадам де Сталь оказалась дальновиднее многих мужчин в современной ей Франции и лучше других разглядела сущность Бонапарта, с триумфом встреченного Парижем. Вот что она написала после личной встречи с ним: «Я видела многих незаурядных людей, в том числе и необузданные натуры, но тот ужас, который исходит на меня от этого человека, есть нечто особенное. Он не красив и не уродлив, не мягок и не жесток… Он и больше, и в то же время меньше, чем человек… Его существо, дух, язык отмечены печатью чего-то чужеродного, и если речь идет о том, чтобы завоевать симпатии французов, то это скорее преимущество… Он ненавидит не более, чем любит, для него существует только он сам, все прочие — не более чем номера. Великий шахматист, для которого человечество — противник, которому нужно объявить шах и маг… Он презирает ту нацию, восхищения которой добивается. В его потребности ввергнуть человечество в изумление отсутствует искра воодушевления… В его присутствии я ни разу не смогла свободно вздохнуть».