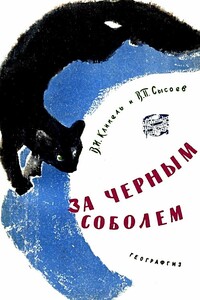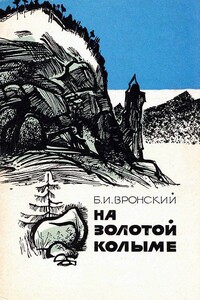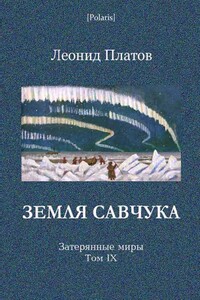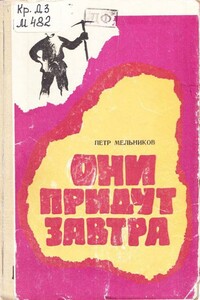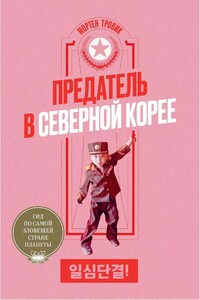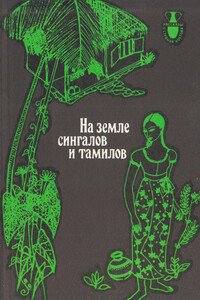Снежная робинзонада | страница 80
Приближалось время расставания с Кызылчой. Почти шесть лет назад впервые поднялся я сюда, на хмурые склоны Чаткала. Сколько за это время пережито, узнано, сделано!
А сколько не узнано, не сделано! Вон белеет Каракуш — высшая точка в бассейне Кызылчи. Не раз я собирался подняться туда, но, облазив почти весь бассейн, так и не побывал там, так же как и в других интересных местах, окружающих станцию. Очень страшное, оказывается, это слово — «потом». Слишком часто становится оно синонимом слова «никогда», перечеркивая невзятые вершины, непройденные пути. Очень коротка человеческая жизнь, чтобы можно было себе позволить часто пользоваться этим словом, порождающим потом тоску по несбывшемуся. «Рано или поздно, под старость или в расцвете лет Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов… Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня». Прав Грин!
…Мы сидели с Эриком у окна в кают-компании и неторопливо, беззлобно переругивались.
— А кто в прошлом году на снегосъемке напартачил и выговор заработал?! Гляди, Сан Саныч, заставят на том свете за грехи вечно снегосъемку делать!
Я вообразил бесконечный снежный путь и себя с рейкой и плотномером. Иду, измеряю глубину и плотность снега и снова иду, иду, иду, как Агасфер. Бррр! Действительно страшно!
— Ах, так! Вообрази и ты себя на том свете. Соответствующее оформление, конечно. Сам, замы, помы, ангелы, архангелы, силы, власти небесные. Весы. На одной чашке стопка твоих трудов по гидрологии, а на другую архангелы Гавриил и Михаил, самые сильные на том свете, поминая господа бога и богородицу и утирая крыльями пот, с грохотом водрузят движок, распаявшийся на Четыксае по твоему недосмотру. Что перетянет?! А? Вот то-то!
С «улицы» донеслась песня.
— Гидрологи идут!
Я посмотрел в окно. Лежавшие у крыльца Бяша и Черт, навострив обрубленные уши, уставились в белесую муть тяжелого тумана, переглянулись и вновь погрузились в блаженную дремоту возле пустой миски. Послышался скрип лыж, и в тумане, как на фотографии в проявителе, стали медленно вырисовываться фигуры в плащах с острыми капюшонами, похожие на монахов или, скорее, на марсиан: сложные, зловеще поблескивающие приборы в их руках могли успешно сойти за инопланетное оружие. Было видно, как «марсиане» остановились, о чем-то посоветовались и двинулись в направлении своей конторы.
Дверь распахнулась, и в клубах тающих клочьев тумана показалась высокая фигура нашего радиста и электрика Юрия Львова (его предшественник Витя Бурмин уже полгода работал на небольшом аэродроме где-то в Таджикистане). Мы с Юрием старые знакомые: еще весной первого года зимовки он сбрасывал нам с вертолета продукты. Отработав четыре с половиной года начальником пустынной метеорологической станции Ак-Байтал, почти в самом центре Кызылкума, он снова с женой и маленьким сыном отправился на зимовку, на этот раз на «высокогорку» — Кызылчу. Его умелые руки с твердыми, железной крепости пальцами оживляли холодные, замерзшие двигатели, пробуждали, казалось бы, навеки умолкшие приемники, стремительным стуком ключа соединяли станцию с внешним миром. Он был владыкой самого главного на зимовке — радио- и электростанции. Всегда бодрый, чуть насмешливый, словно бросающий вызов всем жизненным невзгодам — а их у него было немало, — он словно был создан для нашей работы. И сейчас на его узком, резко очерченном лице задором горели чуть прищуренные серые глаза. Что-то веселое бросил он дежурившей на кухне Люде Кожановой, скинул промасленную телогрейку и через пять минут склонился напротив Лени Кондакова над какой-то сложной шахматной комбинацией.