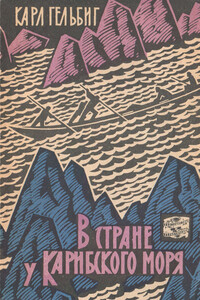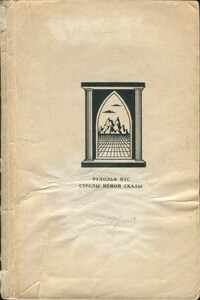Последний аргиш | страница 14
Выйдя наружу, я искал кедровую дощечку тихо, стараясь уловить разговор в чуме.
В чуме затрещал костер. Вдруг послышался резкий, непривычно резкий голос сенебата:
— Ты ему уже успела наболтать лишнее, старуха?
Затем голос матери, спокойный, хотя и грустный:
— Только то, что ты разрешил, сенебат.
— Ну, смотри же… Вот я и пришел проверить…
Я прислушался. Что же он не разрешает сказать мне? Что же?
Что-нибудь о Токуле, но я должен знать о своем отце, о своем настоящем отце!
Что случилось с ним, когда он вернулся домой, когда мои слезы не стерли его путь?
Во всех чумах варили медвежье мясо. В нашем чуме гостил сам «дедушка», поэтому у нас мясо не варили, и сенебат подолгу гостевал у соседей.
Улучив минуту, я подсел к матери и выжидательно посмотрел в ее глаза.
С тех пор как пришел сенебат, мать больше ничего не говорила о Токуле. Я ждал и, не утерпев, спросил:
— Что же было дальше, после того, как вернулся своей дорогой мой отец Токуле?
Мать вытерла мягкой березовой стружкой морщинистые, обветренные руки и только успела сказать: «Дальше…», как за чумом послышались знакомые шаги сенебата.
Мать испуганно сжалась и, понурив голову, пробормотала:
— Дальше тебе расскажет сенебат…
Он уже открывал дверь и входил в чум, неся в руках сколоченную из кедровых дощечек коробочку без верхней крышки.
— Дагай, поставь столик на переднее место у стенки против входа! — торжественно сказал сенебат.
Я подчинился.
Он приладил коробочку на низеньком деревянном сто* лике, за которым мы ели, прибил в край столика кусочек меди, нарисовал углем на стенках коробочки медведя, поставил внутрь ее норку и накрыл коробочку платком.
Теперь «дедушка» снова был в берлоге — только нос торчал наружу. Там он будет все три дня гостить у нас.
Я смотрел на «гостя», и мне казалось, что это улыбающееся лицо моего отца — Токуле, как на бумажке, которую я спрятал за пазуху.
Дверь чума открылась, вошел Чуй.
Сенебат уселся поудобней и спокойно сказал:
— Ну, мать, давай чай пить будем.
Как пить чай? Когда же мне — сыну Токуле — будут рассказывать о моем отце?
Сейчас я ненавидел сенебата. Я сразу забыл все хорошее, что он делал для меня, чему он учил.
Я помнил только Дочь ночи, шум бубна и песни, которые в эту минуту стали мне ненавистны.
Я боялся, что сенебат, как всегда, угадает мои мысли, и не смотрел на него. Я даже сел подальше от столика, но опять голос сенебата, неожиданно грустный, позвал меня:
— Дагай, садись ближе к гостю. Мы узнаем, кто будет кормить его, что он есть захочет.