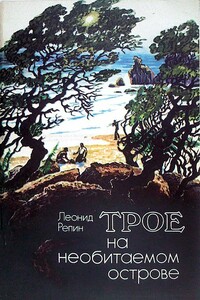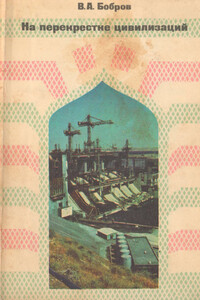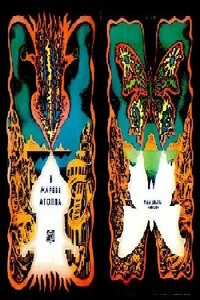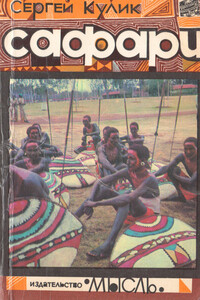На Памире | страница 52
В 1895 году было подписано соглашение о разграничении. Памир приобрел государственные рубежи, известные сейчас каждому школьнику. Согласно этому соглашению, афганские войска, оккупировавшие Рушан, ушли на левый берег Пянджа. Но поскольку до 1895 года они оккупировали правобережье от устья Язгулема до Хуфа, русские топографы не смогли тогда отснять эту часть Памира. В какой-то мере эту задачу выполнил в 1898 году М. А. Кирхгоф. Он составил карту от Хуфа до Шидза. Севернее карты не было. Топорнин, сын коменданта Оша, шурин будущего профессора и академика, брат женщины, чьим именем названа одна из крупнейших вершин страны, восполнил в 1911 году этот пробел…
Рассматривая надпись, я чувствовал, как на полуметровом участке скалы сконцентрировались события десятилетий, совершенно, казалось бы, разрозненные, а на самом деле связанные глубокой преемственностью, казавшейся мне полной особого смысла. С этим настроением, уже под вечер, я направился в кишлак Шипад, чтобы заночевать у знакомого агронома.
Чтобы добраться до Шипада, нужно было пройти отрезок Пянджской долины, от созерцания которой у меня всегда захватывало дух. На афганском берегу Пянджа высилась отвесная скала, по которой шел овринг. Крупнее и головокружительнее овринга я не видывал. Прилепившаяся к скале навесная тропа зигзагом уходила вверх метров на двести и там терялась из виду за каменным выступом. Только однажды мне довелось видеть, как по этому оврингу шел человек. Похоже было, что муравей ползет по изломанной соломине. Рассказывают легенду, будто с этого овринга бросилась девушка, которую выдали замуж за нелюбимого и везли в его кишлак. Грустная легенда, совершенно подстать мрачному ущелью, со дна которого виден лишь клок неба.
Я лишний раз порадовался, что мне не нужно лезть на этот овринг, что по нашему берегу идет автомобильная дорога. Правда, в этом месте дорогу снова перемели пески. Справа по ходу возвышался огромный, метров на двадцать высотой, вал сыпучего песка. Причудливый изгиб долины в этом месте создавал особый ветровой режим, который и привел к накоплению песка. И сейчас ветер срывал песок с дюны, забрасывал его вверх на скалы, а со скал песок ссыпался тонкими струйками. Несколько экземпляров распростертой триходесмы противостояли разгулу песчано-ветровой стихии, запустив корни в подвижный грунт. Впервые я увидел эти растения здесь в 1954 году. Проезжая через это место в 1974 году, я убедился, что число триходесм за двадцать лет не увеличилось. Дюна явно не поддавалась закреплению.