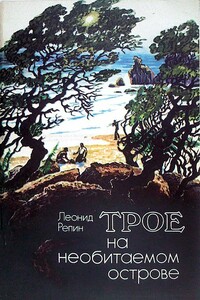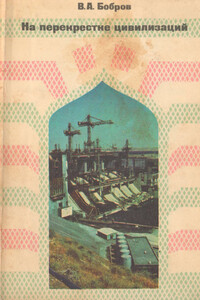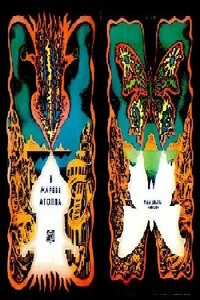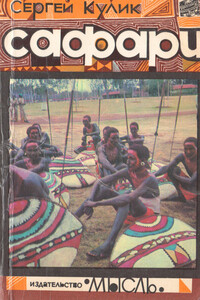На Памире | страница 51
В этот день последовала еще одна находка, совершенно неботаническая, но крайне интересная. На отвесной, отполированной водами древнего Пянджа воронёной скале, покрытой пустынным загаром, виднелась надпись, тоже изрядно потемневшая и поэтому не бросавшаяся в глаза:
Шт.-кап. Д. Топорнинъ
Прошел 18-VIII-1911.
Я опешил. И было от чего. Тот самый Топорнин!
Надпись была сделана так высоко, что, даже стоя ногами на седле, дотянуться до нее было бы трудно. А ведь нужно было выбивать слова на камне. Объяснение могло быть только одно: старый овринг, по которому Топорнин ехал, в 1911 году располагался выше полотна современной автомобильной дороги. Когда Топорнин выбивал эту надпись, Сарезскому озеру было всего полгода от роду. Собственно, и озера-то еще не было, был лишь завал, уничтоживший кишлак Усой. Когда Топорнин выезжал из Ташкента на Памир, он должен был ощутить сейсмический толчок Усойской катастрофы. Ведь толчок зарегистрировали даже в Пулкове.
Разглядывая надпись, я как бы приобщался к событиям давних лет. Но самое главное было даже не в этих сугубо эмоциональных и чуточку сентиментальных переживаниях, а в том, что я знал этого человека, этого штабс-капитана. Не лично, конечно, а как одного из первых топографов, составлявших в начале века карту Туркестана. Знал я также, что Топорнин был родным братом Евгении Сергеевны Корженевской, именем которой назван один из могучих пиков-семитысячников Советского Союза. А следовательно, был Топорнин шурином крупного исследователя гор Средней Азии профессора Николая Леопольдовича Корженевского, мужа Евгении Сергеевны, открывшего этот пик. Но и это не все, хотя я лично знавал и Николая Леопольдовича, и Евгению Сергеевну и надпись на скале вызвала живые воспоминания. Дело в том, что сама работа военного топографа Д. Топорнина уходила своими корнями в еще более далекое прошлое.
…1893 год. Россия и Великобритания создали совместную разграничительную комиссию, которая наконец-то должна была положить конец постоянным столкновениям на неопределенных тогда рубежах между русским Туркестаном и колонизованной Индией. Комиссии нужна была подробная карта Памира. Ее делали и британские, и русские военные топографы, стараясь выполнить задание с максимальной тщательностью: сторона, располагавшая лучшим топографическим материалом, могла иметь преимущества во время переговоров. Глава английской части комиссии генерал Джерард пытался затянуть переговоры по целому ряду соображений, позволявших англичанам надеяться на разграничение в их пользу. Поводом для затяжек служило «отсутствие карт», хотя британский топограф и разведчик майор Холдидж со своим отрядом работал довольно энергично. Каково же было удивление Джерарда, когда глава русской части комиссии полковник Повало-Швыйковский в начале 1894 года предложил начать переговоры на основе русских карт. Топографический материал оказался хорошим, и Джерард попытался оттянуть начало переговоров уже на другом основании: Повало-Швыйковский всего лишь полковник, а Джерард желает вести переговоры только с равным по чину. И эта уловка не помогла: Повало-Швыйковскому был присвоен генеральский чин. Джерард вынужден был начать переговоры. Правда, поскольку Повало-Швыйковский имел только депешу о присвоении чина, а эполеты у него оставались полковничьи, Джерард настоял, чтобы в официальных актах русского главу комиссии именовали «полковником, имеющим чин генерала». Мелкий укол!