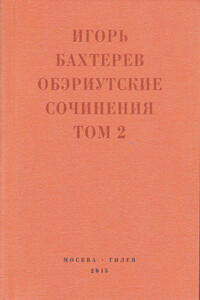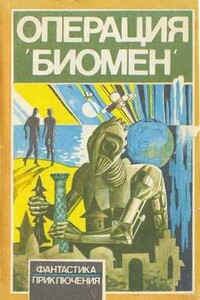Тендеренда-фантаст | страница 16
Тут смерть стала дразниться: «Ecce homo logicus![48]» и взлетела на верхнюю ступень. И разверзла свой Великий ароматизатор, чтобы доказать свой авторитет.
Тут Господь поразил её по голове таблицей категорий так, что голова со звоном разбилась на куски, и продолжал плясать с мужскими вывертами и проворными петлями. Смерть же растоптала таблицу категорий, а привидения съели её.
Тут смерть сделала пепловый дождь из стружки птичьего рагу, которая предназначалась для гробов, и воскликнула: «Chaque confre`re une blague, et la totalitе´ des blagues: humanitе´»[49]. И хрустнула при этом гробовыми крышками своих скул. Опилки же разлетелись вокруг, но привидения подъели их.
Тут Господь опустил трубу долу и воскликнул: «Сатана, Сатана, бунт!»[50] И появился красный палач, ложное его величество, и убил смерть так, что ни один человек больше не мог её опознать. И привидения съели её.
Но вот они стали весьма могущественны и закричали: «Подать нам сюда жареного поэта!»
«Корова, ты наша!» – сказал чёрт.
«Свобода, братство, небо, ты наше».
«Нашество и скаредность, – говорил чёрт, – а как ещё назвать это?»
Тут Господь предоставил им жареного поэта. Но привидения расселись кружком, стерилизовали его, сняли с него кожуру, выщипали остья перьев и съели его. Тут оказалось, что облатки служили ему пуговицами, на которых держались его штаны, гортань оказалась несбродившей, мозги ароматными, но с криво перевязанной пуповиной. И младшее из привидений держало над ним заупокойную речь:
«Этот был психофакт[51], – так начиналась речь, – не человек. Гермафродит с головы до подмёток. Остро колются духовные плечи сквозь эполеты его визитки. Его голова – чудесная луковица духовности. Слепое влечение стремлением беспрерывного самопознания было его началом, его концом и началом столь девственной, совершенно бескомпромиссной душевной чистоты, что мы, подрастающие, не можем внутри трагично классифицировать сомнение в долге слишком революционно нравственно-образующего материнства как пусть и необходимую, но сладкую проблему нашего всё ещё бессильного стремления в космос воли к полёту и преодолению земного.
Великолепное лежит здесь, рассыпанное, в мусоре несброженных, так и оставшихся абстрактными, речей. Субъективистская экстатика не всегда в состоянии отрешиться от напыщенной самоцели. Плотный мечтатель и факироподобный искатель освобождения, проповедник высокого и ясновидящий, источник и поприще дифирамбического подъёма посвящает своему высокочтимому образцу терпкое повреждение единственного обстоятельства, что Макс Рейнхардт