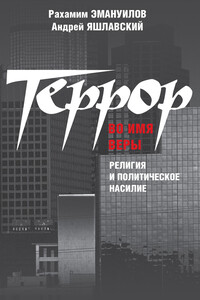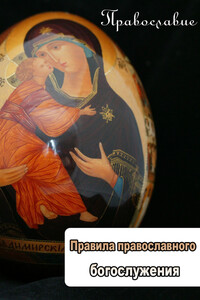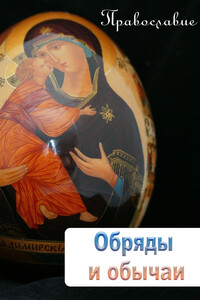Положение духовного сословия в церковной публицистике середины XIX века | страница 96
Обзор полемики вокруг процесса преобразования жизни белого духовенства необходимо начать с книги Н. В. Елагина «Белое духовенство и его интересы»[577]. Елагин, в отличие от своих оппонентов, не разбирает конкретные реформы с целью выявления в них достоинств и недостатков, а отрицает их необходимость как таковых. Процесс реформирования он считает ошибочным решением государственной власти, которое было принято вследствие слепого доверия публицистическим трудам свящ. И. С. Белюстина и Д. И. Ростиславова. Сами труды перечисленных авторов Елагин характеризует как вредные и лживые, целью которых является не забота о духовенстве, а стремление посеять смуту в духовном сословии, вывести его из-под власти архиереев и настроить против правительства[578]. Мнение о вредных последствиях реформ Н. В. Елагин распространяет и на вопрос о материальном обеспечении духовенства, которое, по его мнению, должно оставаться на прежнем уровне для сохранения пастырского благочестия. Аргументы для своего утверждения – благочестивый священник должен быть нищим – он находит в Священном Писании, указывая на Христа и апостолов, а также на страницах истории Церкви, где богатство пастырей становилось препятствием к христианской проповеди[579]. Как следствие, улучшение быта духовенства представлено Елагиным как несомненное зло для Церкви, государства, священства и самого народа.
Недопустимым Елагин считает и способ сбора информации о положении духовенства. Указ Присутствия о необходимости сбора сведений не только с епископата, но и непосредственно с причтов он воспринимает исключительно как оскорбление недоверием в адрес правящих архиереев и потакание лживости сельских причтов. Здесь важно указать на то, что в первой части брошюры в адрес русского духовенства звучали всевозможные похвалы, но в контексте, где положительный образ русского священника Елагину становится невыгоден, он обвиняет священство во лжи, сребролюбии и других пороках[580]. Иначе говоря, Елагин считает, что если и есть решение о сборе информации о нуждах причтов в различных епархиях, то эту информацию должны предоставить правящие архиереи, а не причты, представители которых ради собственных выгод занизили данные о доходах и требовали непозволительных свобод и роскоши