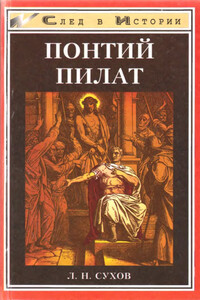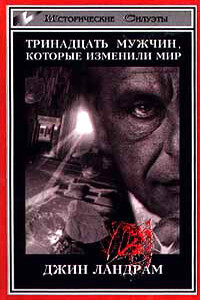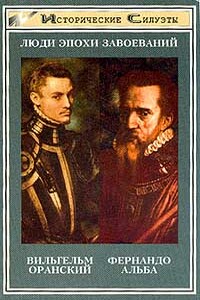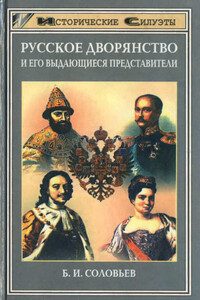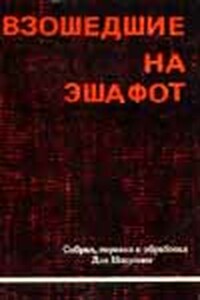Герцль. Жаботинский | страница 60
То, что Герцль после провала переговоров с Германской империей, Турцией и Египтом относительно Палестины был согласен на любую другую территорию, показывает, насколько мало был он связан с традиционным иудейством. По сути своей он оставался ассимилированным австрийским евреем, человеком немецкой культуры, который в силу личной гордости и социального сострадания заявил о своей принадлежности к презираемому еврейству. Возможно, этим объясняется принятие Герцлем восточноафриканского варианта, который положил бы конец враждебному отношению к евреям, но не был связан с иудейскими традициями. Скорее всего решающим здесь стало известие о погроме в Кишиневе. Возможен только одни ответ, писал он тогда своим друзьям, планомерная массовая эмиграция на территорию, защищенную в правовом отношении, ибо Кишиневу не будет конца. Осознание бесправия и беззащитности евреев потрясло его до глубины души. Он оказался абсолютно прав в том, что погромы в России не прекратятся; в еще больших масштабах они повторялись после революции 1905 года и во время гражданской войны, причем со стороны как белых, так и красных. Сегодня нас не так уж изумляют преследования еврейского народа — преследования меньшинства, жившего без прав, в условиях гетто, в государстве с постоянной угрозой революций. Герцль хотел тогда любой ценой спасти многомиллионное население русско-польских областей, где сорок лет спустя произошло организованное массовое убийство. «Кишинев не был концом преследований, но не был им в гораздо более ужасном смысле, чем можно было тогда предвидеть», — заметила однажды Ванда Кампманн. — Герцль мог бы своими смелыми и отчаянными планами, тогда казавшимися большинству предательством сионизма, спасти от гитлеровских лагерей уничтожения, допустим, еврейских детей из Вильнюсского гетто, детей, которые в 1903 году ликующе приветствовали его, а год спустя горестно оплакивали. Но планы эти, увы, не были осуществлены…» То, что Герцль в последние месяцы своей жизни признал единственно возможной целью Палестину, создает впечатление, будто решающую роль тут сыграли пропагандистские соображения. Но ведь в конечном счете массы нужно было подвигнуть на эмиграцию. Сам Герцль не настаивал на Палестине. Однако он признавал, что евреи, которые вообще были готовы к эмиграции, выступали только за Палестину. Он примирился с этим. В этом его укрепили также впечатления от поездки в Палестину. Она предстала перед ним действительно как «страна будущего». Несмотря на окончательный выбор в пользу Палестины, он продолжал считать проекты относительно Кипра, Синайского полуострова или Восточной Африки промежуточным решением для тех евреев, которые в это время находились в невыносимых условиях. Первые две области еще могли бы считаться при этом воротами в Палестину. Напротив, Восточная Африка была лишь вынужденным решением в совершенно безвыходной ситуации — ситуации, которая все же привела к признанию Англией еврейского народа как народа и его национальных устремлений. Как правило, об этом забывают. Однако для последующей истории и развития сионизма этот факт имеет существенное значение. От Герцля и его первых переговоров с Англией, без сомнения, ведет прямой путь к Балфурской декларации, мандату на Палестину и созданию «национального прибежища для еврейского народа» — к основанному в 1948 году государству Израиль.