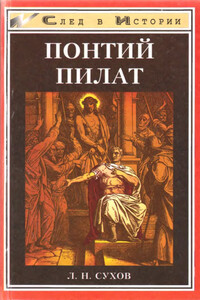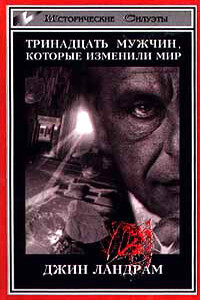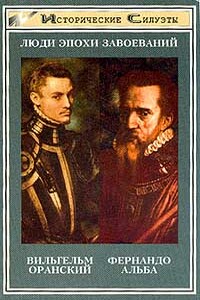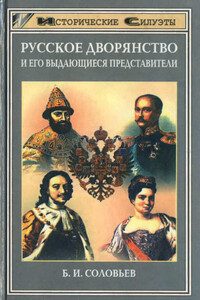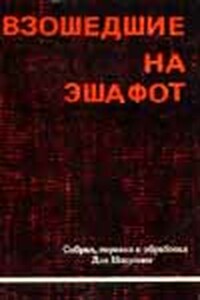Герцль. Жаботинский | страница 57
Если рассматривать сионизм в качестве государства в процессе становления, как это делал Герцль, то харьковская конференция была государственным переворотом или «революцией из верности принципам», как ее назвал Алекс Байн. Когда Герцль после попытки покушения на Макса Нордау опубликовал сообщение об этом одновременно с решениями харьковской конференции, в сионистской прессе поднялась буря негодования по поводу нарушения единства. Весной 1904 года Герцлю еще удалось на заседании Большого исполнительного комитета в Вене достичь компромисса; он убедил своих противников в том, что никогда не откажется от Палестины. На этом его силы исчерпались. Он еще планировал поездки в Париж и Лондон, но осуществить их уже не смог.
ЭПИЛОГ
Смерть Герцля 3 июля 1904 года в Эдлихе на Земмеринге — ему исполнилось всего 44 года — была воспринята сионистским движением как крайне болезненная утрата. Так, 6 июля Мартин Бубер писал своей жене:
«О смерти Герцля ты наверняка уже слышала; завтра похороны. Это произошло страшно неожиданно и непостижимо. Впрочем, для него это было лучшее время смерти — еще до всех неизбежных разочарований и упадка, смерть на вершине. Каким теперь будет движение, невозможно предугадать. Но об этом сейчас трудно думать, настолько тяжко чисто человеческое потрясение». Его неожиданная смерть заставила еврейство понять, кем был Герцль и что он значил для сионизма. Повсеместно в еврейских и нееврейских газетах появлялись более или менее прочувствованные некрологи, в которых излагалась история его жизни и отдавалось должное его роли в сионистском движении и его значению для еврейского народа. Но появлялись и сомнительные отклики на его кончину — чуть ли не с отттенком облегчения.
«Герцль при жизни говорил и делал многое, что можно было бы подвергнуть сомнению…», — писал, например, Ахад Хаам. Поэтому, слыша хвалебные гимны, раздававшиеся со всех сторон, вполне можно было задать вопрос, как это делает Алекс Байн в своей биографии Герцля, «не восприняли ли многие его смерть все же как освобождение». На это указывает и кое-что в развитии сионизма в послегерцлевский период.
После смерти Герцля в сионистской организации несомненно усилились идеологические разногласия по вопросам стратегии и тактики. В движении все больше укоренялись идеи Ахада Хаама и Мартина Бубера. Дискуссия о том, должна ли практическая работа в Палестине предшествовать политико-территориальному решению, заняла более важное место, чем при жизни Герцля. Нельзя с уверенностью сказать, как бы Герцль повел себя в этих баталиях, будь он жив. Если исходить из ситуации накануне его кончины, то нельзя себе представить, чтобы он и дальше оказывал такое же влияние, как после 1897 года. Его авторитет сильно пошатнулся после угандского проекта; его политика, как заметил Алекс Байн, «не могла больше проводиться в условиях сопротивления восточноафриканскому проекту и невозможности получения в данный момент палестинской хартии; его взгляды подвергались критике все более широкими кругами, и вследствие этого неприятие их впоследствии, несомненно, усилилось бы». Вероятно, Герцлю пришлось бы отойти от провозглашаемой им политики и согласиться на начало практической работы в Палестине, предварительный этап которой он частично одобрил (Палестинская комиссия, покупка земли) и частично поощрял (филиал еврейского колониального банка в Яффе). Но как бы он себя действительно повел, нельзя сказать наверняка, тут можно лишь предполагать.