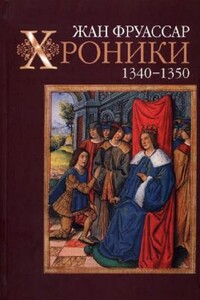Толедские виллы | страница 27
Но если я тогда и не влюбился, то, по крайней мере, залюбовался незнакомкой, стараясь запечатлеть в душе ее дивный облик. Вспомните слова философа о том, что разум детей — это чистая, гладкая таблица, на которой легко запечатлевается любой образ или предмет, ибо она ничем не заполнена. Так и моя любовь была еще дитятей, и душа, непривычная к подобным впечатлениям, восприняв это, первое, сохранила его и будет хранить до смерти.
И дабы очистить себя от подозрений в нечистых помыслах, я опишу вам то, что узрел тогда и обожаю ныне.
Волосы ее — блестящий агат (коль агат можно расчесывать) — частью были забраны перламутровой сеточкой, — пленные, они меня пленили, а были бы на свободе, что тогда? — частью выбились на волю из своей тюрьмы и рассыпались по лилейному полю чела и плеч; некоторые же так расшалились, что дерзали лобзать румяные ланиты и коралловые уста, скрывавшие дивные жемчужины. Веки, телохранители ее очей, назначили привратником сон, который, вооружившись стрелами — если не копьями — черных ресниц, преграждал доступ дерзновенным желаниям, хотя они, как нищие попрошайки, заходят без спросу куда им заблагорассудится. О, Амур может гордиться неслыханной победой, он одержал ее над столь непокорной душой, спрятав в ножны главное свое оружие, взял меня в плен закрытыми глазами! Брови, царившие над ними, как радужные дуги в небесах, казалось, были знамением милости, подобно радуге среди туч[23], явленной всемогущим творцом при вселенском потопе, однако, черные, как и волосы, они скорее предвещали траур и печальный конец моей любви. Ищу сравнений для ланит, сего престола Амура, и не нахожу: ни молоко с цветами гвоздики, ни жасмин, сплетенный с розами, тут не годятся, да и можно ли прибегать к этим избитым примерам? Увы, описывая красоту, перо неизбежно портит портрет своими кляксами. Скажу лишь, то были ланиты дамы из Толедо, а у нас румяна и белила должно бы карать как бродяг, ибо естественные краски из Тахо столь хороши, что все модные притиранья — здесь втируши. И не сочтите мои слова преувеличением пылкого влюбленного, если скажу, что Амур, создавая это чудо красоты, клал краски набело, тогда как у других женщин — черновики. Между щеками, как третейский судья, разместился строгий нос, указывая обеим сторонам пределы их власти и предоставляя губам гадать, какие сокровища таятся в нем за рубиновыми вратами ноздрей. Клянусь, шалун с Кипра[24] охотно променял бы объятья своей божественной матери на нежные колыбельки двух ямочек — одна под прелестным носиком, другая под устами, — хотя вряд ли ему удалось бы там уснуть: лишь черствая душа отказалась бы ради сна от наслаждения созерцать эти дивные ямочки. Возможно, его бы до них и не допустили, зато моя свобода тут оступилась и упала так основательно, что нелегко было ей подняться. К счастью, она с надеждой ухватилась за утешительницу-шейку — белизною молоко, но твердостью алебастр, — не то бы ей несдобровать. Не знаю, счесть жестоким иль милосердным вырез легкой сорочки, за то что разрешил мне узреть два чуда, явленных спящей красавицей. Если мои глаза должны быть ему благодарны, то свобода моя вправе сетовать. Я назвал бы их снежными сугробами, когда б они не жгли; горами Потоси