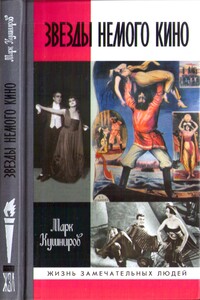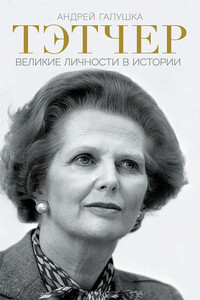Мейерхольд: Драма красного Карабаса | страница 39
Обидно, что не состоялась тогда «Бесприданница» — едва ли не лучшая (во всяком случае, самая передовая) из пьес Островского, в которой внятно улавливаются интонации ибсеновской драматургии. Обидно — тем более что Станиславский любил эту пьесу, ставил ее, играл в ней Паратова. Правда, разгадать ее не вполне привычную интонацию не так просто, и, похоже, он сам не сумел этого сделать.
«Поздняя любовь» — неплохая, но очень заурядная пьеса. Как, пожалуй, и «Трактирщица». Первая успеха на сцене не имела и прошла за сезон всего два раза, вторая была намного интереснее и прошла пять раз.
«Гедда Габлер» возникла уже под занавес сезона. Поставил ее Немирович, питавший слабость к Ибсену. Он старательно объяснил пьесу актерам, но они — даже самые прекрасные — не поняли ее до конца, как ни старались. Тем не менее Станиславский (он играл Левборга), по единодушному мнению критиков, создал сильную и яркую роль — суперодаренного, неотразимого… слабака и неудачника. В целом же мощный подтекст драмы оказался неощутим в спектакле — подробно обытовленный сюжет обволок его, заслонил. В какой-то момент между постановщиком и Мейерхольдом разыгрался острый спор — первый из многих. Поводом послужила реплика Станиславского: «После этой пьесы все светские дамы будут носить платье и прическу, как у М. Ф.» (Мария Федоровна Андреева играла заглавную роль).
Мейерхольд шутку не оценил: «Ведь Ибсен бичует условия современной общественной жизни, способствующие появлению женщин, подобных Гедде. Если присутствующие на представлении не ужаснутся, а напротив, станут подражать ей, не поблагодарит нас за это Ибсен. Он пишет не для того, чтобы развращать массу, он не пишет также, оставаясь равнодушным к отрицательным явлениям общества. Вы знаете, что Ибсен более, чем кто-либо другой, может считаться не только глашатаем гуманности, но и носителем идеала гражданственности».
Перечитываю этот пассаж и удивляюсь: бичует условия… глашатай гуманности… Близорукость и наивность молодого актера, признаться, слегка удивляют. Но, увы, это не было случайностью. Эти его свойства — близорукость и наивность — оказались причудливо, но прочно встроенными в его гениальность. И мы еще не раз уловим это в его практике и теории.
«Антигона» и «Шейлок» (он же «Венецианский купец») — это классика, всегда уместная в интеллигентном театре, ориентированная прежде всего на детальную, сосредоточенную режиссуру и на сильных исполнителей. Классика эта внешне проста, но далеко не стандартна, даже откровенно вызывающа в контексте тогдашнего времени и места. Мейерхольд играл в ней не главные роли — проще сказать, маленькие: прорицателя Тирезия в «Антигоне», принца Арагонского в «Шейлоке».