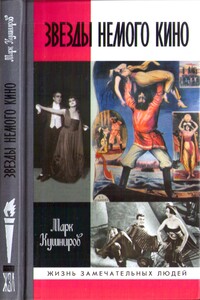Мейерхольд: Драма красного Карабаса | страница 40
Особенно коварным спектаклем был, конечно, «Шейлок». Лишь великому Кину удалось в свое время победить антисемитский пафос в роли Шейлока. На этот раз затея не удалась — вернее, удалась лишь отчасти. Главную роль Станиславский отдал небездарному, но очень ограниченному актеру Царскому, да еще вдобавок навязал ему еврейский акцент, так что весь трагизм героя скатился в комическую местечковость (что не преминули брезгливо отметить многие критики). Думаю, что Мейерхольд, который писал Ольге, что толкование Станиславского «оригинально», «далеко от рутины», что «роль им отделана дивно», и тут проявил очевидную близорукость. Быть может, его увлекла точность декораций и костюмов. ««Шейлок» будет идти совсем по мейнингенски, — писал он тогда же в Пензу. — Будет соблюдена историческая и этнографическая точность. Старая Венеция вырастет перед публикой как живая. Старый «жидовский квартал», грязный, мрачный, с одной стороны, и полная поэзии и красоты площадь перед дворцом Порции с видом на ласкающее глаз море — с другой». Но главное — про свое: «Алексееву очень нравится мой тон в «Шейлоке»… Моя роль по его мнению, самая неблагодарная. И в том же духе другое письмо: «Алексеев в восторге, давно перестал делать замечания. Как раз сегодня была репетиция и исполнение мое вызвало в присутствующих гомерический смех».
Станиславский подтверждал в своих письмах к Немировичу: «Мейерхольд — мой любимец. Читал Арагонского восхитительно — каким-то Дон-Кихотом, чванным, глупым, надменным, длинным-длинным, с огромным ртом и каким-то жеванием слов». Мейерхольд действительно толковал своего персонажа карикатурно — даже чуть-чуть, видимо, перебарщивал. Стоит сказать, что Немировичу эта буффонадная трактовка не нравилась, а вот критикам, публике и всем, буквально всем однокашникам она пришлась по вкусу.
Зато другая роль — прорицателя Тирезия — была признана Немировичем удачей еще на стадии репетиций. Эта похвала, отравленная отставкой от роли царя Федора, была, скорее всего, заурядным педагогическим трюком, но все-таки чуть-чуть успокоительным. («Немировичу очень понравилось и по замыслу и по исполнению. Он говорит «блестяще».) Спектакль был встречен хорошо — он прошел тринадцать раз за сезон, это был неплохой результат для такого сложностилизованного зрелища.
Из девяти намеченных репертуарных пьес две принадлежали Герхарту Гауптману. Этот модный автор сразу сделался классиком в умах российской интеллигенции. Мейерхольд, едва познакомившись с его творениями, в восторге писал о них и Ольге, и в дневнике. На «Ганнеле» строились главные материальные расчеты театра. Станиславский читал труппе «Ганнеле» под аккомпанемент музыки, написанной специально для спектакля композитором Антоном Симоном — он же играл во время читки. Читал Станиславский, как всегда, прекрасно. Женщины не могли удержаться от слез. И Мейерхольд на финальном месте тоже без стеснения разрыдался — о чем потом написал Ольге. Стоит лишний раз восхититься тем, как эта простенькая сентиментальная сказка талантом драматурга (а затем и театра) превратилась в мудрую феерию, горько и сладко растопляющую даже зрелые души, пробуждающую в них сокровенное ощущение вечности.