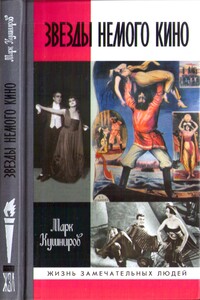Мейерхольд: Драма красного Карабаса | страница 38
Немирович без разговоров уступил верховенство Станиславскому. Писал ему: «Мое с Вами «слияние» тем особенно ценно, что в Вас я вижу качества художника par excellence, которых у меня нет. Я довольно дальновидно смотрю в содержание и его значение для современного зрителя, в форме склонен к шаблону, хотя и чутко ценю оригинальность. Здесь у меня нет ни Вашей фантазии, ни Вашего мастерства». Мейерхольд не читал этого письма, но сразу согласился со всеми точками зрения своего нового патрона. Память об «Отелло» была незабываемой.
Когда пришло время (в конце августа) снова переселяться в Москву, был устроен торжественный ужин, на котором снова выступил Станиславский. Однако идеал идеалом, а проза прозой. Именно здесь, в Пушкине, Мейерхольду выпало впервые познать и зависть, и ревность, и обиду, и смирение — и всё это в куда большем объеме, чем в привычных ему семейных дрязгах. Познать, но не изжить в себе ни одно из этих чувств. В данном случае все началось с роли, коронной роли в новом театре, которую он уверенно надеялся получить.
А теперь вернемся к репертуару. Репертуар этот — наглядный пример, как непросто давалось двум смелым зачинателям осуществление их голубой мечты. Прежде всего бросается в глаза, что он подобран и торопливо, и не слишком продуманно. Хотя логика в его подборе все же проглядывает. Какую-то часть репертуара заполняют спектакли, или уже сыгранные в «Обществе» Станиславского, или заведомо продуманные им. Первый и, увы, самый одиозный пример — «Самоуправцы». Господи, до чего же она неуместна в этом списке — эта безвкусная, топорная, насквозь пошлая пьеса! Вряд ли ее можно было исправить хорошим исполнением — разве что малую малость. При этом она хулигански рифмуется со словами Немировича о его преднастроениях: «Мы были только протестантами против всего напыщенного, противоестественного, театрального, против заученной штампованной традиции». Пьеса Писемского обещала по этой части много всякой всячины… Кстати, Мейерхольд играл в ней второстепенную роль дворецкого.
Еще одним спектаклем, уже поставленным Станиславским в своем «Обществе», был «Потонувший колокол» — одно из лучших трагических произведений Гауптмана, эпическая сказка. Сам Станиславский играл мастера Генриха, его возлюбленную, фею Раутенделейн, играла Мария Андреева. Эта пьеса как бы открывала цикл одной из самых постоянных тем драматурга: трагическую несовместимость свободного творчества с повседневной — и по-своему привлекательной — мещанской стихией.