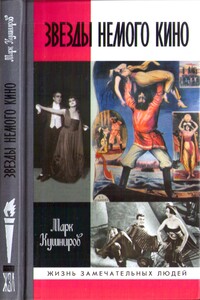Мейерхольд: Драма красного Карабаса | страница 37
Но к репертуару мы перейдем чуть позже. Сейчас несколько слов о Пушкине, живописном дачном месте по Троицкой (ныне Ярославской) железной дороге — немного дальше, чем Мытищи. Место это стало своего рода колыбелью «нового театра». (Замечу на всякий случай, что никакого отношения к великому поэту название места не имеет, а имеет, по мнению историков, к его дальнему родственнику — боярину XV века по имени Григорий Пушка.) Здесь Станиславский наметил первый сбор труппы и сколько-то месяцев репетиций. В Пушкине сняли дачный участок, на котором был объемистый сарай, а неподалеку от него несколько дачек. В дачках жили актеры и актрисы, в сарае наскоро оборудовали сцену и небольшой зрительный зал. Справа и слева были две уборных — «мужская» и «женская». В первый же день Станиславский, назначенный перед поездкой главным режиссером и директором будущего театра, накрыл стол, поздравил всех присутствующих и произнес небольшую речь. В частности, он сказал: «Мы приняли на себя дело, имеющее не простой частный, а общественный характер. Не забывайте, что мы стремимся осветить темную жизнь бедного класса, дать им счастливые эстетические минуты среди той тьмы, которая окутала их». При этом подчеркнул, что «общедоступность» театра не означает отказа от девиза «искусство для искусства».
Эта расхожая формула резанула слух молодого Мейерхольда. Для него служение искусству могло вдохновляться лишь одним идеалом — служением народу. Народ, понятное дело, подразумевался в самом что ни на есть высоком демократическом толковании. Позднее, когда вырабатывался корпоративный устав Художественного театра — а Мейерхольд принимал в этом активное участие, — он поставил условием: коллектив должен знать, что он играет, зачем он это играет и для кого он это играет. Последний вопрос был для него риторическим: уроки Ремизова давали себя знать.
В Пушкине актеры жили общиной. Все делали своими руками — и готовили, и стирали, и мели комнаты, и ставили самовар. Ссоры почти не случались. Одна из них — по сути, просто бабья склока — повергла Станиславского в такую грусть, что он не постеснялся публично заплакать. «Как же так можно? — всхлипывал он, сидя в сторонке на пеньке. — Из-за чепухи, ерунды какой-то, губить всё наше дело?!»
Уже вскорости он полушутя-полусердито жаловался Немировичу, что молодежь слегка перепугана его мейнингенской дотошностью и говорит, что это не театр, а какой-то (!) университет. Но Мейерхольду, как и многим дамам — Савицкой, Андреевой, Лилиной, Самаровой, даже Книппер (ее интимные отношения с Немировичем ни для кого не были тайной), — как раз эта дотошность пришлась по вкусу. Они старательно, даже с увлечением (иногда, правда, немного показным) внимали урокам своего ментора.