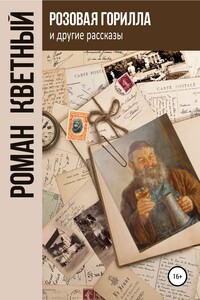Рассказы и эссе | страница 42
«Пойдем, посмотришь на свой дом». «Но как?». С нижнего окопа он хорошо виден. Идем к нижнему окопу. Тут уже ступай осторожно и пригнись. Я ведь еще не привык, я все воспринимаю как пьяный, или словно во сне. Не верю, иду спокойно.
И вдруг начинают стрелять. И мне показалось, что все прицельно метят именно и только в меня. Не успел мой сородич Степан Зантария скомандовать, «Ложись», как я упал сам. Упал и дергаюсь, как бы пытаясь уклониться от пули в последний миг. «Что ты слышишь — не в тебя», утешил Степан.
Доползли до нижнего окопа. В окопе уже все по фигу. Если то, что слышишь — не в тебя, значит то, что в тебя — услышать не успеешь! А весь этот адский грохот — для малодушных. Слабое утешение. «За неделю привыкнешь», — заверил Степан. Степан с Адгуром Харазия (пусть между ними будет белый камень, как говаривал мой отец, когда ему приходилось сопрягать имя покойного с именем живого: Степан вскоре погиб) стреляют одиночными. Таков приказ командира Мушни Хвацкиа (Мушни, в мирное время археолог, тоже погибнет вскоре), командующего Очамчирским фронтом: патроны наперечет, и вообще одиночными эффективнее.
А через дорогу, за эвкалиптами, справа, я видел свой обугленный дом. Как непривычно было его видеть! Он был «объект». За ним сидели грузины. А поодаль море на горизонте перегорожено горами. Способен ли мой страх создать такое натуралистическое видение? Скажи мне правду, атаман! Горы: рельеф, цвет, сумерки. Горы так близко на горизонте, что море подобно широкой реке.
Снаряды, пулеметы, трассеры. Как красив бой, если бы не убивало! «Посмотри, как охуели птицы», — сказал Степан. Небо засеял свинец. В небе мечутся птицы. Сколько свинца падает на Ануа-рху, последний оплот села! Я высовываюсь: вон одна беэмпешка, вторая, седьмая. И вон — пехота. Они даже в атаку не идут! Они уничтожают нас издалека!
Холм задрожал. Задрожало мое село. Взревело, враз лишившись всех своих сыновей. Только я чудом уцелел, хоть и сижу в нижнем окопе…
Но вот я и не уцелел. Снаряд установки «Град» разорвался рядом со мной и меня похоронило. Неглубоко и неопасно, но я-то этого не знал, когда звук исчез, как будто выключился, когда поднялся и повис надо мной, и замер коричневый веер, просвечиваемый солнечными лучами. Это была взрыхленная почва. Земля, которая опускалась на меня. Зашевелился прекрасный коричневый веер, меняя фигуры, как детский калейдоскоп, или распущенный хвост павлина. И посыпался на меня шуршащим сухим дождем. Егей, хоронюсь-то я заживо! И не только совсем-совсем живым, но не оплаканным ни матерью, ни сестрой, ни женой! Одной лишь сердобольной Т. Булановой, да и той загодя.