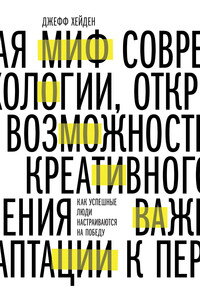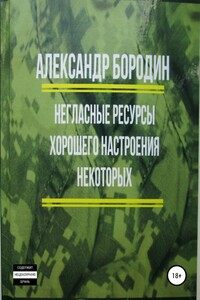Психология проблемного детства | страница 73
Для иллюстрации я взял одно из наблюдений А. Фрейд над ребенком, направленным к ней в связи с ригидным и тяжелым характером. «Мой десятилетний пациент, находясь на более поздней стадии анализа, вступил однажды в приемной в разговор со взрослым пациентом моего отца. Тот рассказал ему, что его собака растерзала курицу и он, хозяин собаки, должен был за нее заплатить. «Собаку следовало бы послать к Фрейду, – сказал мальчик, – ей нужен анализ». Взрослый ничего не ответил, но впоследствии высказал неодобрение. Какое странное впечатление сложилось у мальчика об анализе! Ведь собака не больна. Я же отлично поняла, что мальчик хотел сказать этим. Он, должно быть, подумал: «Бедная собака! Она так хотела быть хорошей, но в ней есть что-то, заставляющее ее так жестоко поступать с курами»».
С появлением самосознания (суперэго) на первый план выходят мятежные устремления. «Своенравная молодость», умом отрицая сложившиеся порядки и досаждающая взрослым, начинает страдать от своих воспоминаний, осевших в подсознании, когда, напрочь забыв обстоятельства жизни, человек остается в том или ином переживании незрелым и зависимым существом. О таких расстройствах и психологии защитных реакций (сублимации, вытеснения, перенесения, интроекции, рационализации и др.) имеется воистину неисчерпаемая литература, останавливаться на обзоре которой в нашем издании было бы непосильно и неуместно.
Естественно, сами по себе дурные привычки еще не признак церебральной недостаточности в клиническом понимании этого слова. Здесь мы опять возвращаемся к взглядам А. Фрейд, определившей их место в феноменологическом пространстве где-то между незрелостью мозга и психики в целом.