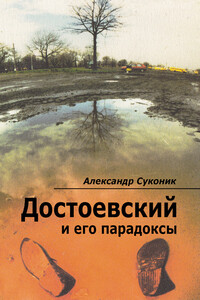Россия и европейский романтический герой | страница 9
Итак, русский молодой человек, созданный по образу и подобию европейского романтика, в главе «По поводу мокрого снега» сталкивается с неромантической реальностью российской жизни и решает до конца дней уйти в подполье, то есть созерцательное одиночество. Он пишет «Подполье» через двадцать лет после событий, описанных в «По поводу мокрого снега», пишет умудренный этими событиями, и то, что он теперь говорит, проистекает из прояснившейся ему жизненной позиции – единственно возможной, по его мнению, для «умного человека девятнадцатого столетия». Он не называет этого человека «русским умным человеком девятнадцатого столетия», но о ком еще он может говорить? Он говорит, что такой человек должен быть «бесхарактерным», имея в виду бездеятельным, а деятельного человека «с характером» презрительно называет «существом по преимуществу ограниченным».
«Подполье» – это замечательное философское произведение; в данный момент, однако, мой интерес сосредотачивается не на горьких и иронических прозрениях героя, но на скрытых причинах, которые формируют его угол зрения на человека и мир людей.
Этот угол зрения формируется прежде всего тем, что в своем одиночестве он несчастлив. Мы принимаем его несчастливость за неоспоримый факт и больше не думаем о ней, – и это ошибка. Нам известно, как много людей уходили и уходят по разным мотивам в уединение и совсем не жалеют об этом; напротив, уединившись и погрузившись в миросозерцание, то ли религиозное, то ли философское, они только тогда и обретают душевное и духовное спокойствие. Но дело в том, что, хотя подпольный человек замечательно умен, он по своей изначальной натуре не созерцатель на восточный лад, но активный романтик на лад западный. Только у него не вышло быть активным романтиком, и в этом его трагедия.
Нет, его трагедия коренится глубже, точней в другом. Про то, что у него не вышло быть активным романтиком, он знает, а про другое – нет. То есть не то что не знает, но не хочет знать, потому что если бы узнал (признался себе), то не смог бы жить.
Вот как сам писатель Достоевский. При всем его национализме, при всех его антиевропейских выкриках, при всем его понимании, насколько Европа – это что-то одно, а Россия – это что-то другое, Достоевский все равно не мог допустить последний вывод, который слишком ударил бы по нему и его сокровенным надеждам. Достоевский – вне всех своих идеологических пристрастий – хранил надежду на конечное торжество человеческой общности, целостности (может быть, и потому, что сам был так разодран внутри себя). Достоевский не любил Петра, но однажды записал, что Петр оправдал свою миссию тем, что, открыв Россию Западу, послужил делу всеобщности. Конечная всеобщность России с Европой была идеей жизни Достоевского, и если бы он допустил себя дойти до мысли, что, как он непрерывно изображал, такая «либеральная» идея химерична, он не смог бы жить. Я не говорю, что он покончил бы с собой, такие вещи никто не имеет права предполагать, но – просто потерял бы желание жить, свернулись бы, усохнув, те самые «клейкие листочки», которые помогают нам держаться за нить жизни, вот и все.