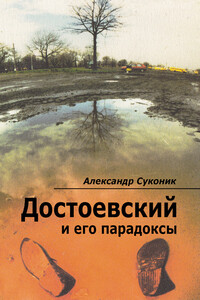Россия и европейский романтический герой | страница 8
О да, подпольный человек выставляет дело таким образом, что его желание «доказать себя» выглядит более отвратительно, чем бездуховность срединности «они-то все», но, может быть, следует отвлечься от его самобичевания, отвлечься от психологии и представить, что подпольным человеком движет какая-то странная сила, над которой он не властен. И он снабжает нас ключевой фразой: «– Так вот оно, так вот оно наконец столкновение с действительностью, – бормотал я, сбегая стремглав с лестницы. – Это, знать, уж не папа, оставляющий Рим и уезжающий в Бразилию; это, знать, уж не бал на озере Комо!» Русский романтик точно оценивает свою ситуацию. Он непрерывно клянет себя за трусость, но напрасно: он пытается «доказать себя» не из эгоизма, но потому что приговорен исполнить ту же миссию романтического героя, которую исполнял Дон Кихот. Только ему несравненно трудней: Дон Кихот нападал на мельницы, потому что был безумен и видел в них враждебных воинов, но подпольный человек знает, что нападает на бесчувственное дерево мельничных крыльев, и все-таки нападает. Противопоставление сторон изумительно: папа, озеро Комо, Бразилия – это все Европа, которая целиком выделала (создала) подпольного человека и где такие происшествия все-таки возможны (в конце концов, они случаются в литературе, следовательно, в них есть что-то от жизни). Но в российской действительности такого, как сказано в параболе об умной русской романтике, не бывает, и потому подпольному человеку суждено быть карикатурой (наподобие того, как всегда были есть и будут карикатурны российские люди, полагающие устроить в России демократию на западный манер).
Вся штука в том, что он умней этих людей и знает, что в лучшем случае его роль – это роль шута а-ля Дон Кихот и что русскому на западный манер человеку никогда не стать настоящим деятелем в романтическом смысле слова. Он зовет себя «деспотом в душе» и рассказывает, как распропагандировал и подчинил себе младшего друга, а потом «возненавидел его и оттолкнул от себя, – точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы». В этом «возненавидел» кроется тонкость: возненавидел не потому, что был «деспотом в душе», а, наоборот, потому, что оказался лицом к лицу с неспособностью быть идеалистическим деспотом, то есть руководителем.
Тут закольцованный круг, который никому не разорвать. Человек, рожденный в России с душой европейского романтика, видит себя в другом окружении по сравнению с романтиком, родившимся в Европе: «…о пункте чести (point d’honeur) у нас до сих пор иначе ведь и разговаривать нельзя, как языком литературным». Он погружен в российскую реальность, которая со своим «обыкновенным» языком каким-то образом более реальна, чем покрытая лоском литературного языка реальность цивилизованной Европы, и разрыв между романтизмом и реализмом видится ему безнадежным. Какие счастливцы эти европейцы! Как случилось (с течением веков, несомненно), что они сумели, все более и более цивилизуясь, замаскировать от себя истинную реальность реальности того, что такое человек и человеческая жизнь, и сохранить иллюзию, будто восторги романтизма принадлежат реальности, а реальность, в свою очередь, принадлежит к романтическому действию во имя осмысленности истории?