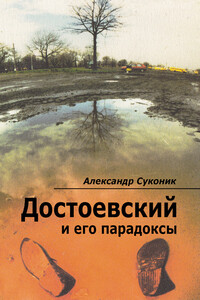Россия и европейский романтический герой | страница 10
Если бы подпольный человек решил сказать себе прямо, в чем его трагедия, он немедленно должен был бы привести имя Петра Великого и проклясть его. Действительно, что такое была русская культура в продолжение семи веков со времени Крещения и до прихода Петра? В каком она находилась состоянии, точнее, какое состояние удовлетворяло ее? Такое состояние, в котором письменность существовала в виде религиозных писаний и летописей, музыка – в виде народных песен и литургии, живопись – в виде народного лубка и иконописи. Русское национальное сознание хранило образы мифических (сказочных) героев, таких как баловень судьбы Иван-дурак или народный защитник богатырь Илья Муромец, но образ активного борца за абстрактные «высокие» идеалы, то есть Романтического Героя, был ему абсолютно не знаком. Фантазировать на тему, какова была бы Россия, если бы не явление Петра, невозможно и глупо, но поражаться тому волшебному повороту, который произошел с российской культурой после того, как Петр забрюхатил ее Европой, следует непрерывно – то есть следует непрерывно думать об этом.
«Подполье» называют нигилистическим произведением, и это, в общем, верно. Но точно так же называют писания Ницше и тогда проводят параллель между двумя писателями, не вникая в суть дела и не понимая, насколько мы тут имеем дело с двумя разными типами нигилизма. Нигилизм Ницше – это героический, наступательный нигилизм. Сказав «Бог умер», он тут же назначает на место христианского Бога нового руководителя – сверхчеловека Заратустру. Нигилизм подпольного человека – это горький нигилизм человека, отдающего себе отчет в тщете любой активности. Мироощущение героя резко отличается от его мироощущения, описанного в «По поводу мокрого снега». Молодой герой там пусть и издевается над собой, но все равно живет в мире романтизма. Между тем человек, пишущий «Подполье», издевается над романтизмом и отрицает его уже полностью, и полностью со стороны. Романтизм – это не просто «высокое» и «прекрасное», которые «надавили» на повзрослевшего героя, – это воспевание благородного действия, ведущего к какому-то положительному изменению в мире людей и во имя людей. Повзрослевший же герой отрицает всякое изменение к лучшему в мире людей: «Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское… И что такое смягчает в нас цивилизация? Цивилизация вырабатывает в человеке только многостороннесть ощущений и… решительно ничего больше… По крайней мере от цивилизации человек стал если не более кровожаден, то уже хуже, гаже кровожаден, чем прежде…» Соответственно, он отрицает всякий смысл в развитии истории: «Ну, пожалуй, и однообразно: дерутся да дерутся, и теперь дерутся и прежде дрались, и после дрались, – согласитесь, что даже уж слишком однообразно. Одним словом, все можно сказать о всемирной истории, все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать – что благоразумно». В подпольном человеке живет меланхолическая тоска по возможности устроить хоть как-то по-человечески человеческий мир. Он знает, что «человек есть животное по преимуществу созидающее, присужденное стремиться к цели», но тут же нигилистически низводит эту цель до «куда бы то ни было». Конкретным толчком к гневу и издевательствам подпольного человека над теориями устройства общества послужили доведенные, как всегда у нас бывает, до идиотизма западные социальные теории; но то, что он говорит, выходит далеко за пределы спора с Чернышевским и компанией: «Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно. Но отчего же он до страсти любит тоже разрушение и хаос?» И следует ироническое и, по сути дела, безнадежное уточнение: «Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос… что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание?» Сорокалетний русский подпольный человек проклинает романтизм и все, что с ним связано, но с тоской вспоминает прошлое, в котором романтизм, несмотря на все его неудачи и крахи, играл такую значительную роль. Он все-таки