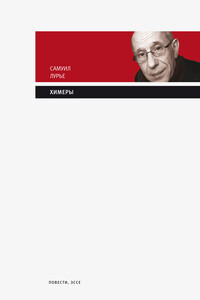Россия и европейский романтический герой | страница 51
Попав на каторгу, Достоевский отдалился на дистанцию, с которой мир людей видится совсем иначе, чем он видится самим людям, даже самым талантливым и умным из них, вот почему к нему рано или поздно должна была прийти фраза «я-то один, а они-то все». Повторю: такого рода видение приходит к людям, способным быть мистиками, для которых тысячелетия легко превращаются в точку, а Достоевский был такого рода мистик. Шекспир при всей его способности объять мир людей все-таки благодаря плотности европейской традиции не мог выйти за ее пределы, то есть за пределы европейского романтизма. Но русское культурное пространство, в котором осуществлялся Достоевский, было неплотным и недавним и потому разреженным, будто Россия находилась немножко в разреженном, отдаленном от земли пространстве (разумеется, не от «земли», а от Европы). И это пространство, это расстояние, немыслимое для европейца, должно было приносить ему особенное чувство несчастливости: с этого расстояния вещь, именуемая христианской религией, не могла видеться ему такой твердой безусловностью, какой она виделась тем, кому посчастливилось куда как дальше удалиться от времен, именуемых варварскими. А ведь Достоевский так любил христианство! То есть по крайней мере он так с ранней молодости и до конца жизни любил фигуру Христа! Не потому ли он с такой экзальтацией отдавался поиску веры, и именно полной веры, сетуя на разум, который в данном случае мешал ему? Не потому ли вообще российские люди если веруют, то, как правило, с особенными жаром и экзальтацией, которые давно забыты западными христианами?
Тут есть одна черта. По инерции думается само собой, что люди в прежние времена верили с большим жаром, потому что их вера была сильней. Но это ошибка; куда верней древнее психологическое замечание насчет Юпитера, который сердится, потому что не прав. То есть не то что неправ, но говорит что-то, что для других небезусловно (и он знает, что небезусловно), и это выводит его из себя. В Европе до шестнадцатого века шли свирепые религиозные войны, которые, по сути дела, начались очень давно, где-то в третьем и четвертом веках, и, конечно же, эти войны возникали не совсем и не всегда по идеалистическим причинам, то есть под высокими лозунгами защиты чистоты веры крылись более низкие мотивы – национализм и экономика. Но религиозная нетерпимость возникала не потому, что вера была особенно жарка и тверда, как раз наоборот – потому что новая (христианская) религия была вовсе не безусловна, ее приходилось доказывать – а как же легче всего доказать свою точку зрения, как не с мечом в руках?