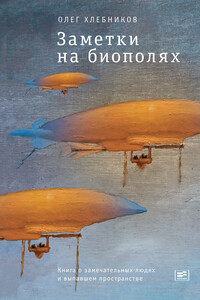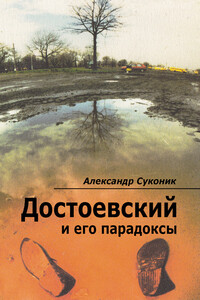Россия и европейский романтический герой | страница 50
Если читать это воспоминание чисто рассудочно и придираясь к словам, можно, пожалуй, заметить, что мечту, которой человечество отдавало все силы, Ставрогин называет высоким заблуждением, но, право, есть ли смысл буквально придираться к словам поэтического текста, когда еще Платон говорил, что этого не стоит делать. Это воспоминание, этот сон Ставрогина можно сравнить с пушкинским стихом про бедного рыцаря, однажды и на всю жизнь ушибленного чудным видением; Достоевский особенно любил это стихотворение и цитировал его в «Идиоте». Разумеется, ситуация Ставрогина иронична: чего стоит счастье, если его можно испытать только во сне, только как идею? И тем не менее, даже если во сне, эта идея несет в себе взрывчатку, которая не снилась даже Шекспиру. Если существуют небеса, то там обитает человек, который мгновенно понимает, что я собираюсь сказать. Человек этот – тот самый знаменитый русский консерватор и литературный критик Леонтьев, который знал и писал, что Достоевский ставил земное счастье человека выше небес, что земное общество счастливых людей было для него первично, а небеса вторичны. И действительно, согласно Ставрогину, лучшие люди убивались или умирали на крестах не ради идеи бога, а ради идеи человеческого счастья.
«Золотой век» европейского (обратим внимание, не русского, или китайского, или еще какого) человечества Ставрогин помещает в самой глубине истории, за сотни, а то и тысячи веков до возникновения христианской религии, люди, по всей видимости, молятся солнцу, которое недаром же радуется своим детям: они счастливы, потому что невинны. Невинны – вот словцо, но как именно невинны? Они живут в другие времена, и им незнакомы не только правила добра и зла, в которых более двух тысяч последних лет воспитывает людей европейская христианская культура, вселяя в них совесть и делая их несчастными, но, может быть, и вообще никакие правила добра и зла: как же еще человеку сохранить невинность? Насколько должны быть укорочены его мысли и его желания? Как же быть невинным, если не быть птичкой божьей, которая не помнит, что было с ней минуту назад, и не заботится, что случится через минуту? Как постоянно быть счастливым без того, чтобы не замечать, как сильный бьет слабого, и не загрустить по умершему родному человеку?
Разбирая образ каторжника Петрова, я приводил справедливое мнение марксистского культуролога Переверзева, что Петров – это предел антисоциального уродства: чего хочется Петрову, то хорошо и правильно, неважно, если это достигается грабежом и убийством. Но с Достоевским-Горянчиковым на каторге произошла странная метаморфоза, он растерял там всю свою культурологию, и потому Петров (который, как и Орлов, относится к нему снисходительно, как к ребенку) в его глазах превращается в совершенно другую фигуру и начинает сквозить далеким человеком – представителем несбыточного общества счастливых людей. В самом деле, хоть Петров действительно украдет Евангелие у друга, чтобы выпить полушку, и убьет другого друга за тряпку, его желания предельно коротки, в них нет расчета. Его разум нерасчетлив, и он в самом деле живет, как птичка божья, зная (тоже как птичка) только одно: что сила почтенна, а слабость презренна.