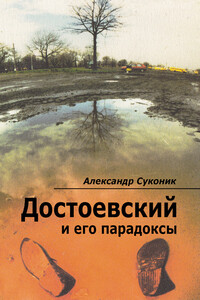Россия и европейский романтический герой | страница 39
Возвращаясь к конкретности моего исследования: трудно найти русского писателя, да и вообще какого-нибудь российского деятеля, на работе которого с такой силой отразилась бы эта расщепленность, как на Достоевском. В Достоевском, как ни в ком другом, жило восторженное дитя европейского романтизма, и – поскольку он прежде всего воспитался под влиянием французской литературы – именно дитя этой наипервейшей романтической литературы в Европе (он знал это и потому так издевался над Францией – больше, чем над другими европейскими странами).
Но в нем жило еще кое-что, что заставляло его впадать в бездонное злобно-ироническое состояние против романтизма, против западного «дурака-романтика», то есть против чего-то сидящего в самой сердцевине западного идеализма, и это породило самоиздевательства Подпольного человека и образ Степана Трофимовича (но нельзя забывать, что идеал красоты и, следовательно, истины все-таки приходил к нему только с Запада; впав в состояние транса, Достоевский простаивал часы перед «Сикстинской мадонной» Рафаэля, отнюдь не перед рублевской «Троицей»).
Что же такое было это «еще кое-что»? Как странна традиция прочтения Достоевского (не только в России, но и за рубежом)! Как в ней все восторженно однозначно! Взять ту же реплику Подпольного человека, что ему не нравится аксиома, что дважды два четыре. И почвеннические догматики, и западные экзистенциалисты одинаково хвалят это своевольное заявление героя, находя здесь его желание утвердить свою личность, окруженную давлением бесстрастности объективной науки, но не замечают двойственности этого заявления. Достоевский мог бы выбрать более задевающий за живое пример научной гипотезы, например вызывающую в те времена негативные эмоции дарвиновскую теорию эволюции («человек произошел от обезьяны»), – это было бы реалистичней и понятней, но в этом не было бы такого экстремального парадокса. «Дважды два четыре» существует слишком давно и слишком рядом, и в этом содержится доказательство «человечности» человека в миллион, в сотни миллионов раз больше, чем в отказе от него: понимание того, что дважды два четыре, – это уникальное качество разума человека, а откажись человек от разума, и он снова перейдет в животное состояние. Но именно этого тот, другой, неевропейский Достоевский открыто или неоткрыто, прямо или непрямо постоянно требует от русского человека, которому, по его мнению, разум приносит только несчастье. Вот он как бы ернически записывает в «Записках из подполья»: «Но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознания, но и всякое сознание болезнь». В сочетании с нападением на «дважды два четыре» и с другим еще замечанием, что человек – это не только разум, но кое-что еще, с упором симпатии на это «кое-что еще», то есть на всплески иррациональности, это замечание кажется чем-то большим, чем ерничество. Вот Достоевский несколько раз записывает в записных книжках: «вера и разум несовместимы». С личной (субъективной) точки зрения известно, что Достоевский имел в виду: истерзанный тем, что разум мешает ему поверить буквально в воскрешение Лазаря, он впадал в отчаяние и нападал на свой разум. Но, так как Достоевский-художник