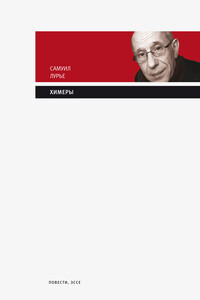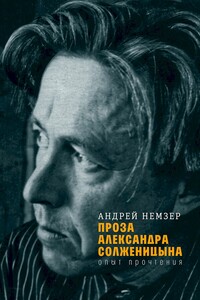Россия и европейский романтический герой | страница 34
Но Достоевский – совсем другое дело, и никто не скажет, что он был психически вполне здоров. Разумеется, я не имею в виду, что Толстой представлял мир людей только газетной стороной мышления и потому его образы – это натуралистически частные образы (Тургенев, явно из зависти, обвинял его в этом). У Толстого, как и у Достоевского, как и у любого большого писателя, были общие, глубоко интересовавшие его идеи (христианский морализм, предпочтение человеческой пассивности активности и, как следствие, идея непротивления злу), но все-таки общие идеи Толстого не были идефиксом, как это называется в психиатрии, а идеи, владевшие Достоевским, были куда более навязчивыми. И вот в момент, когда рядом с образами революционеров-заговорщиков появляются образы Степана Трофимовича, Шатова и Кириллова, творческое мышление Достоевского спускается с газетного уровня на ступень глубже, и образы становятся двойными: сотворенными на поверхности (иллюзорно) согласно правилам материалистической поэтики Аристотеля, но несущими внутри себя персонажи-идеи, отвечающие правилам идеалистической поэтики Гегеля.
Какие же это идеи? Одна из постоянных «общих» идей, владевших Достоевским, была идея великой европейской культуры, уже создавшей законченные образцы красоты и истины (Мадонна Рафаэля, Шекспир, «Дон Кихот» Сервантеса); другая была та, что русский европеизированный человек несостоятелен, как несостоятелен русский «умный романтик», который и вам и нам, или Степан Трофимович, который говорит благородные слова и благодушно проигрывает в карты крепостных. Третья, самая фантастическая и самая желанная – что Россия, вернувшись к самобытности, каким-то образом «спасет» (то есть возродит) Европу, пытающуюся заменить Богочеловека Человекобогом. В этом смысле отказ образу Степана Трофимовича в серьезности достаточно последователен. То же самое с образом Кириллова. Для Достоевского тайна самоубийства – одна из самых неразгаданных и серьезных проблем человеческой жизни. И все-таки, несмотря на одержимость Кириллова парадоксальной идеей уничтожения себя материально во имя вечной жизни духа, этот персонаж с самого момента своего появления смешон неуклюжестью речи и даже такой деталью: исповедуя теорию всеобщего разрушения, он приехал в город строить мост. На это ему указывает Степан Трофимович, и Кириллов одобрительно смеется. Но еще более ставит под сомнение серьезность образа сцена его столь «некрасивого» самоубийства. Эта сцена, написанная с огромной силой, выявляет карикатурность противоречия между абстрактной идеей – «большой идеей», которой, согласно Достоевскому, должны жить люди, – и реальностью того, какая на самом деле малость есть человек.