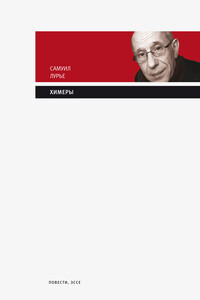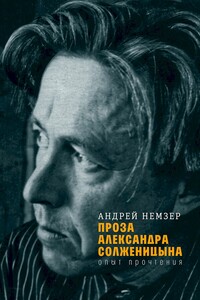Россия и европейский романтический герой | страница 33
Творя образы Степана Трофимовича и Шатова, Достоевский применяет один и тот же художественный прием, только зеркально перевернутым образом. Прием состоит в контрапунктном противопоставлении прямой речи героя и описаний его облика и действий со стороны. В случае Степана Трофимовича прямая речь блестяща, но облик и описание его действий таковы, что служат девальвации прямой речи. В случае Шатова речь не просто темна и корява, она, по сути дела, безумна. Но описание облика Шатова и его действий нацелено не просто на то, чтобы сделать его симпатичным человеком, но чтобы создать облик жертвенного агнца (даже если убийство Шатова не связано напрямую с его почвенничеством).
Принято считать (и в высшей степени справедливо), что импульсом к созданию «Бесов» послужило нечаевское дело. Но между сюжетом нечаевского заговора (заговора кружка Петра Верховенского) и появлением ставрогинского сюжета лежит пропасть, в которую никто не пытался заглянуть.
Или, скорей всего, тут не пропасть, а упорядоченные ступени, осветить которые можно только фонариком, электрическое напряжение которого возникает от разности потенциалов между Аристотелевой и Гегелевой поэтиками. Сюжет заговора экстремистов остро интересовал Достоевского, как его остро интересовали вообще все события общественно-политической жизни. Но интересы такого рода затрагивают у людей «газетную» сферу сознания, которая реагирует на события внешней жизненной реальности, не ущемляющей их лично. И даже если Достоевский ощущал нечаевское дело как интимно знакомое, его личное социалистическое оставалось в далеком прошлом. Поэтому он мог писать Верховенского и остальных заговорщиков, как пишут «другие писатели», то есть не выходя за пределы Аристотелевой поэтики. И он умел замечательно писать таким образом: разве образ Петра Верховенского не играет богатством интонаций? разве он не виртуозен с точки зрения реализма?
Когда я говорю «другие писатели», я имею в виду в первую очередь Льва Толстого, уникальность творчества которого состоит в его полной отдельности от европейской романтической литературы. Гегель говорил, что вся европейская литература романтична, потому что несет в себе обязательную рефлексию, но можно продолжить в том же направлении и сказать, что вся европейская литература романтична, потому что берет начало от момента, когда Европа взяла себе за бога вздернутого на кресте и оплеванного Иисуса. «Вздернутого» здесь ключевое слово: оставляя в стороне переносные смыслы, перед нами наглядная картина парадокса оборотности чисто физических понятий верха и низа – некто в агонии