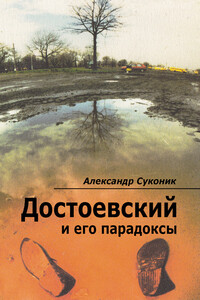Россия и европейский романтический герой | страница 30
Вот как говорит Степан Трофимович, буквально повторяя то, что записывал много раз сам Достоевский напрямую, и вот какова непосредственная, немедленная реакция на его слова Хроникера: «Но пока он визжал без толку и без порядку, нарушался порядок в зале».
Что же здесь происходит? Повторю: «Грановский», этот как будто однозначный образ либерала-западника сороковых годов, написан по тому же принципу, по которому писались преступники-каторжане в «Записках из Мертвого дома». Высоко в небе, над головами карнавальной толпы плывет надутая резиновая фигура, искусно (то есть в высшей степени художественно) размалеванная под «Грановского», но внутри нее сидит другой человек. То есть не совсем другой, потому что в самом Достоевском сидел со всеми своими потрохами, со всей «шиллеровщиной» восторженный идеалист похлеще всех вместе взятых грановских, но в нем сидел еще человек, который так же глубоко умел видеть тьму низких истин и – охладевая – умел бездонно издеваться над этими фантазиями и над самим собой, как он это уже делал в «Записках из подполья».
Что особенно замечательно: Степан Трофимович говорит зачастую «лучше» Достоевского! Достоевский в своих политических или полемических писаниях и письмах обычно ставил проблему духа против материи на черно-белом уровне «или – или», или Шекспир – или сапоги, совершенно как ставилась эта проблема в спорах русских интеллектуалов девятнадцатого века, например в полемике рационалиста Герцена («И чего же бояться? Неужели шума колес подвозящих хлеб насущный толпе голодной и полуодетой?») и мистика Печерина, уверенного, что только религия способна нравственно обновить человечество (Достоевский внимательно следил за этой полемикой). Но в художественных произведениях Достоевский всегда брал свои идеи-проблемы, идеи-фантазии на ином уровне, и тогда эти идеи преображались. Степан Трофимович, этот в данном случае художественный голос Достоевского, вводя слово красота, ставит вопрос иначе (несравненно тоньше), и «или – или» исчезает из его речи. Конечно, красота – необыкновенно важное слово в лексике Достоевского, потому что он употреблял его в том же смысле, что и Гегель: красота – это видимый проводник человека к невидимой для него и всегда ускользающей гармонии-истине. Но только в речи Степана Трофимовича – и нигде больше у Достоевского – так замечательно материя и дух связываются под началом идеи красоты. Когда Степан Трофимович говорит, что сама наука не простоит минуты без красоты, он вовсе не летает в романтических облаках, но