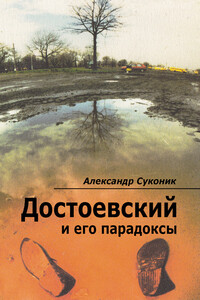Россия и европейский романтический герой | страница 29
Образ Степана Трофимовича организуется в романе через два компонента: прямую речь (его Слово, как, поднимая глаза вверх, благоговейно прошепчут поклонники Бахтина) и комментарий по поводу его слов и действий через Хроникера, генеральшу Ставрогину и напрямую через автора. И – вопреки утверждению Бахтина о некой автономной значимости слова героя Достоевского – авторская задача заключается здесь в том, чтобы любым способом девальвировать в глазах читателя это самое Слово старшего Верховенского.
Задача выполняется с полным успехом. Находясь под впечатлением непрерывных высмеивающих ремарок Хроникера, читатель не замечает, что на самом деле Степан Трофимович, единственный в романе, говорит не просто остроумно и парадоксально («настоящая правда всегда неправдоподобна… чтобы сделать правду правдоподобной, нужно непременно подмешать к ней лжи…»), он говорит резко и метко и повторяет мысли, которые мы всегда найдем высказанными Достоевским напрямую, то ли в «Дневнике писателя», то ли в записных книжках («…Базаров – это какое-то фиктивное лицо, не существующее вовсе… это какая-то неясная смесь Ноздрева с Байроном»). Вот Степан Трофимович говорит на празднике о листовках: «Господа, я разрешил всю тайну. Вся тайна их эффекта – в их глупости… “Не может быть, чтоб тут ничего больше не было”, – говорит себе всякий и ищет секрета, видит тайну, хочет прочесть между строчками – эффект достигнут! О, никогда еще глупость не получала торжественной награды, несмотря на то, что так часто ее заслуживала… Ибо, между прочим, глупость, как и высочайший гений, одинаково полезны в судьбах человечества». Степан Трофимович не просто замечательно говорит, он произносит парадокс совершенно в духе Достоевского. И что же? Немедленно из толпы (обратим внимание, уже не от Хроникера, а напрямую от автора романа) следует комментарий: «Каламбуры сороковых годов!». «Почему вдруг каламбуры сороковых годов?» – мог бы спросить читатель, однако, разумеется, читатель читает не для того, чтобы задавать критические вопросы, но чтобы реагировать на текст эмоционально, а эмоционально эта, по сути дела, совершенно нарочитая и искусственная ремарка наталкивает его на известный уже ему по рассказу Хроникера образ либерала сороковых годов, к которому нельзя относиться серьезно. Степан Трофимович о высоком и низком: «Произошло лишь одно: перемещение целей, замещение одной красоты другою! Все недоумение лишь в том, что прекрасней: Шекспир или сапоги, Рафаэль или петролей?.. Да знаете, знаете ли вы, что без англичанина еще можно прожить человечеству, без Германии можно, без русского человека слишком возможно, без науки можно, без хлеба можно, без одной только красоты невозможно, ибо нечего будет делать на свете! Вся тайна тут, вся история тут! Сама наука не простоит минуты без красоты…»