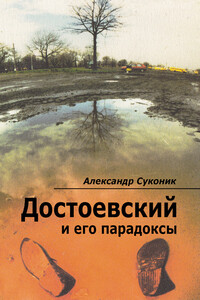Россия и европейский романтический герой | страница 28
Перейду теперь к «Бесам» и рассмотрю два образа в романе, которые под прикрытием Аристотелевой «похожести» (конкретности, частности) несут в себе две отнюдь не частные идеи Достоевского: западничество и почвенничество.
Западничество представлено в романе образом Степана Трофимовича Верховенского, пресловутого «Грановского», либерала сороковых годов, возвышенного и несколько абстрактного романтика, якобы привязанного к своему времени и потому якобы отжившего человека. Вначале, впрочем, Достоевский собирался сделать Степана Трофимовича главным героем романа, и, может быть, потому первая глава с него и начинается. Глава эта написана в том особенном для Достоевского тоне, когда он впадает в издевательское состояние духа и не знает удержу. Но не это главное, а то, что Достоевский как-то немножко слишком связывает личность Степана Трофимовича со своей собственной. «Не знаю, верно ли, но утверждали еще, что в Петербурге было отыскано в то же самое время какое-то громадное, противоестественное и противогосударственное общество, человек в тридцать, и чуть ли не потрясшее здание. Говорили, что они собирались переводить самого Фурье», – пишет Хроникер и добавляет, что в это самое время Степан Трофимович написал поэму, которая была «схвачена» (непонятно почему) в Москве. Но чем больше (и чем более издевательски) Хроникер описывает эту поэму, тем сильнее она начинает переплетаться с каким-то уже знакомым нам текстом – ну конечно: с теми самыми издевательски описанными в «Записках из подполья» мечтами молодого героя. У Степана Трофимовича: «Сцена открывается хором женщин, потом хором мужчин, а потом каких-то сил, а в конце всего хором душ, еще не живших, но которым очень бы хотелось пожить… Вообще же все поют непрерывно, а если разговаривают, то как-то неопределенно бранятся, но опять-таки с оттенком высшего значения… Затем вдруг въезжает неописанной красоты юноша на черном коне, и за ним следует ужасное множество всех народов. Юноша изображает собою смерть, а все народы ее жаждут». В «Записках из подполья»: «…тут же исповедываюсь перед всем народом в моих позорах, которые, разумеется, не просто позоры, а заключают в себе много “прекрасного и высокого”, чего-то манфредовского. Все плачут и целуют меня (иначе что же бы они были за болваны), а я иду босой и голодный проповедывать новые идеи и разбиваю ретроградов под Аустерлицем». Конечно, формально говоря, все (sic!) народы, которые вслед за неким юношей жаждут смерти, и народы, которые плачут и целуют другого уже юношу, как будто исполнены несколько разных эмоций, но и нельзя отрицать в них сходство. Можно даже вообразить себе – тем более что никаких доказательств невозможно представить ни для одной, ни для другой стороны, – что Достоевский тут издевательски цитирует собственные юношеские литературные опыты.