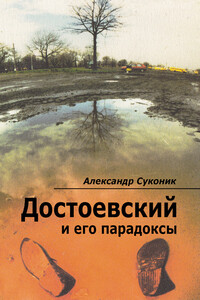Россия и европейский романтический герой | страница 27
преступники из простого народа сконструированы, они так же реалистичны, как реалистичны упыри в народных сказках, living dead в голливудских фильмах, призраки, марионетки, надутые резиновые баллоны на американских парадах, на которых только намалеваны лица, но внутри которых сидят настоящие персонажи, управляющие ими. Я имею в виду, что Достоевский пишет свою книгу, не отталкиваясь непосредственно от жизненного опыта; напротив, жизненный опыт каторги подтолкнул его узнать некую тайну о том, что такое человек, некую идею человека в сугубо гегелевском понимании этого слова – и вот он раскрывает эту идею в художественной форме. Согласно своему новому пониманию, что такое дух (и проявление духа) и что такое материя и формы ее проявления, рассказчик (Горянчиков) создает цельное описание общества людей, которые тем или иным, но обязательно насильственным путем взбунтовались против несправедливой рутины каждодневной жизни, находящейся за пределами каторги. Эта жизнь, которая называется иронически «жизнь на воле», была для них отнюдь не вольная, но в своей материальной реальности подневольная, а их бунт (их, согласно терминологии Достоевского, «своеволие») был именно проявлением человеческого духа. Таким образом, незаметно для читателя создается парадокс, переворачиваются понятия и возникает жизнь наоборот. Самое замечательное, насколько Достоевский забывает в этой книге о любимом им Христе. То есть не о Христе вообще, но о том, что правит жизнью в христианском обществе: о правилах христианской морали. Сам Горянчиков, как человек «с развитой совестью», эти правила исповедует, но не протестует (признает за правду), когда общество определяет его с его правилами простаком, ребенком и в лучшем случае относится к нему, как к любопытному явлению вроде разноцветного попугая в зоопарке. В книге создается единая система координат взаимоотношения материи и духа в каждом персонаже – и соответственно этой иерархии (и только этой иерархии) выписывается ряд образов. Чем более персонаж способен к проявлению активной силы (ограблению и убийству), тем выше он стоит на шкале духовных ценностей общества, к которому Горянчиков желает принадлежать всей душой. Поэтому мы находим на самой человеческой вершине «страшного» разбойника Орлова – явно скомпонованного персонажа с явно выдуманной фамилией: «…никогда в жизни я не встречал более сильного, более железного характером человека, как он… Это была наяву полная победа над плотью. Видно было, что этот человек мог повелевать собой безгранично, презирал всякие муки и наказания и ничего не боялся на свете… Прощаясь, он пожал мне руку, и с его стороны это был знак высокой доверенности… В сущности, он не мог не презирать меня, как существо покоряющееся, слабое, жалкое и во всех отношениях перед ним низшее». Достоевский тут в первый и последний раз в жизни говорит о некоем персонаже теми же словами, какими говорили европейские романисты о своем Романтическом Герое. Невозможно это недооценить: единственный раз в своей творческой жизни Достоевский создает образ супергероя, чья стихия – волевое действие, только этот герой не имеет никакого отношения ни к европейской цивилизации, ни к христианской культуре: его духовные ценности прямо противоположны романтической шкале ценностей, по которой мы, люди «с развитой совестью», так аксиоматично привыкли судить своих ближних.
Книги, похожие на Россия и европейский романтический герой