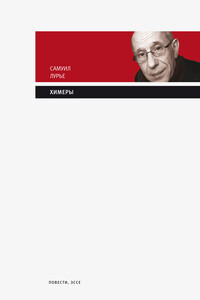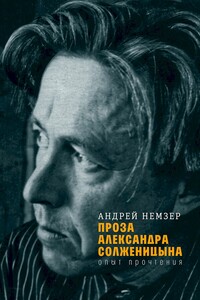Россия и европейский романтический герой | страница 26
. Хотя Салтыкова-Щедрина трудно назвать реалистом, он тем не менее работает в границах поэтики Аристотеля, которая построена на принципе похожести (знакомости), а под похожестью Аристотель понимал не натуралистичность, но частную конкретность. Как бы ни был образ юмористически или сатирически преувеличен, коль скоро читателю понятен («знаком») конкретный (частный) объект этого преувеличения, поэтика Аристотеля оставалась в силе.
Но у Достоевского иначе, и он в этом не похож ни на каких других писателей. Замечательный литературный критик Леонтьев отметил это, когда написал, что узнает у Достоевского страсти, но не узнает лица. Ему только следовало уточнить, что он не узнает лица не всех персонажей, только определенной их группы. У Достоевского есть несколько произведений, написанных целиком, как пишут «другие писатели»: «Бедные люди», «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели». Кто из его ненавистников (вроде Бунина) станет отрицать художественность этих произведений, способность писателя к юмору, даже буффонаде? Кто в русской литературе может стать рядом с ним, изображая слегка выживших из ума стариков? Недаром Белинский, который воспринимал художественный образ через его социальную конкретность, был в восторге от такого Достоевского. Но Белинский позже начал подозревать, что пригрел змею на груди, – он так и не узнал, насколько был прав. Хотя Достоевский и экспериментировал до каторги с новой эстетикой в «Двойнике» и «Господине Прохарчине», все это были нащупывающие попытки-угадки, как у крота, почти вслепую. Только каторга сформировала Достоевского, и все внезапно пришло в фокус, именно то самое таинственное все, что касается формирования новой поэтики, а не только новых политических взглядов.
Лучшее доказательство этому – его первый послекаторжный роман «Записки из Мертвого дома». Роман этот совершенно не понят и до сегодняшнего дня считается чем-то вроде документальных лагерных записок. Именно потому, что Достоевский пользовался материалом (прототипами героев), совершенно незнакомым читательскому миру России, он был особенно свободен подделываться под Аристотелев реализм «похожести». На самом же деле этот роман полностью порывает с традицией материалистической поэтики Аристотеля и полностью переходит на сторону идеалистической поэтики Гегеля (Гегель и был первым, кто отверг принципы поэтики Аристотеля потому, что они, с его точки зрения, слишком материалистичны). В «Записках из Мертвого дома»