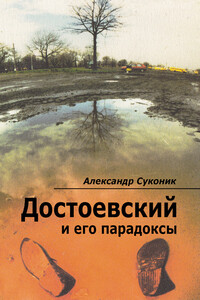Россия и европейский романтический герой | страница 24
Глава третья. «Бесы»
Вот, пожалуй, самая ироническая и самая рисковая фраза во всем художественном творчестве Достоевского: «Наши медики по вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство».
Это последняя фраза романа «Бесы», речь идет о самоубийце Ставрогине. В статье «Патология Николая Ставрогина» доктор Н. Богданов исчерпывающе перечисляет симптомы шубной шизофрении у героя Достоевского (лицо-маска, непонимание переносного смысла слов, изменение личности и проч.). Достоевский всю жизнь из-за падучей был под наблюдением врачей и сам воспринимал себя как не совсем здорового психически человека (иронический автопортрет в описании повествователя Горянчикова в «Записках из Мертвого дома»). Описывая поведение Ставрогина с такой клинической точностью, Достоевский не мог не знать от докторов, что шизофрения не оставляет никаких органических изменений в человеческом мозге и что никакие «наши медики» не могли бы и во сне составить такое заключение, тем более «совершенно и настойчиво» (то есть в лучшей «диалогической» манере писателя, как бы споря с какими-то фантомными оппонентами или самими собой). И все-таки он по какой-то причине, будто чертик его дернул, написал эту вызывающую и абсурдную фразу. Быть может, им владело то особенное ощущение риска, щекочущее чувство хождения по лезвию, которое он должен был испытывать, когда писал своего самого зловещего и самого двусмысленного псевдоромантического героя Ставрогина? Или тут другое, и фраза написана человеком, который, как молодой герой «Записок из подполья», знает, что он-то один, а они-то все, от безвыходности впадает в фантазию, в полный отрыв от реальности и в переносном смысле движется босой в Иерусалим?
Если верно второе, то – как это всегда только у Достоевского – кажущаяся бессмысленной фраза какого-нибудь героя или самого автора на самом деле проливает свет не на скрытый смысл того, что происходит на поверхности романа, но на что-то более общее и более важное. Разумеется, это было уже у Пушкина, и гораздо ясней, в диалоге под совпадающим названием «Герой»: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман». Но если Пушкин не произносил эти слова в отчаянии? Если он был сверхчеловек, у которого хватает сил видеть тьму низких истин и не терять при этом разума, не садиться на иглу фантазий? Или же, другими словами: что с того, что Пушкин-поэт на своей одинокой царской вершине, отделенный световыми годами от мира людей, берет эту проблему как вневременную (метафизическую), в то время как метущийся Достоевский вовсе не способен мыслить отвлеченно-эпически и трепещет перед ней, как она являет ему себя в тревожном мареве временн