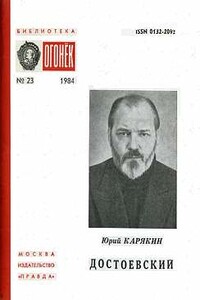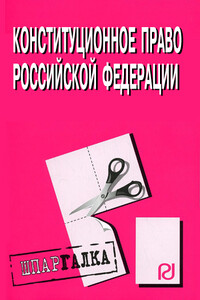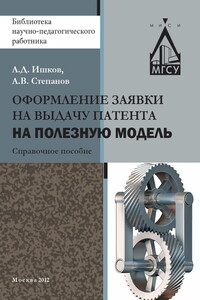Мистер Кон исследует "русский дух" | страница 73
Но все дело в том и заключалось, что политики русской буржуазии не собирались решать все эти задачи, находя для оправдания своего бездействия тысячи уловок и "причин". "Сильная власть", "военная диктатура" для предотвращения грядущей революции и продолжения войны — с этим лозунгом русская буржуазия шла к Февралю, точнее, пыталась предупредить Февральскую революцию. С тем же лозунгом она пыталась и позже "обуздать" победивший народ. Решение всех жизненно важных для крестьян, рабочих, солдат вопросов откладывалось буржуазными партиями "до созыва Учредительного собрания", созыв собрания отодвигался на неопределенный срок, вернее, до того момента, когда буржуазия окажется в состоянии подавить демократическое движение масс. Сначала "оздоровление" (пулями и штыками) России, затем решение (разумеется, в пользу "оздоровителей") всех неотложных проблем — такова была после Февральской революции "положительная программа" партии кадетов, за которыми в те дни стояла вся буржуазная и монархическая реакция. Революция и демократия — это "анархия" и "беспорядок", контрреволюция и реакция — это "спокойствие" и "порядок", под этим извечным лозунгом всех контрреволюционеров русская буржуазия "осуществляла" буржуазно-демократический переворот.
Империалистическая внешняя и реставраторская внутренняя политика были тем "наследством", которое получила партия кадетов от погибшей монархии в 1917 г., и это "наследство" сыграло в истории русского либерализма роковую роль. В условиях уже завоеванных народом демократических свобод реакционная политика быстро привела к банкротству и саморазоблачению как партии "народной свободы", так и примкнувших к ней соглашателей — эсеров и меньшевиков. Все попытки удушить революцию силой окончились провалом. Всего несколько месяцев просуществовало буржуазное "царство" в России, но и этого срока оказалось вполне достаточно, чтобы у народа отпали последние иллюзии насчет демократизма партии "народной свободы" и ее пособников — эсеров и меньшевиков.
Что же касается миссии и роли "свободного Запада" в эти роковые для русского либерализма дни, то "Запад" заботился только об одном: как бы русские армии не покинули союзный фронт. Ради этого он делал все, чтобы подтолкнуть русскую реакцию к "оздоровлению страны". Ганс Кон разглагольствует о "благотворном влиянии Запада" на Россию в 1917 г. Какого Запада? На какую Россию? Того Запада, который мечтал подчинить себе эту страну, который захватывал командные высоты в русском народном хозяйстве, для которого пролетариат, народ России, сначала был необыкновенно выгодным, необычайно дешевым рабочим скотом, а затем превратился в не менее дешевое пушечное мясо? Напрасно ожидать от Кона ответа на эти вопросы.