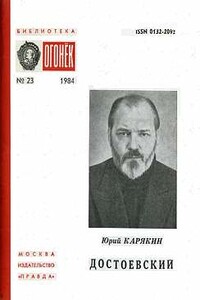Мистер Кон исследует "русский дух" | страница 59
Писатель был и всю жизнь оставался смертельным врагом эксплуататорского строя. И когда он объявлял, что раз коммунисты не верят в бога, то для них "все дозволено", то он попросту мерял коммунизм на буржуазный аршин. "Все дозволено" — это и есть предел эксплуататорской морали вообще, буржуазной в особенности, об этом свидетельствует сам писатель, бичуя аморализм буржуазного общества.
"Что такое liberte? Свобода, — писал он о коновском царстве "liberty under law". — Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать все, что угодно, в пределах закона. Когда можно делать все, что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все, что угодно, а тот, с которым делают все, что угодно"[118]. Художественному выражению этой мысли посвящено почти все творчество Достоевского. Кто любимые герои писателя? Это "бедные люди", "униженные и оскорбленные", это люди, "с которыми делают все, что угодно".
Что же касается христианских идеалов Достоевского, то как можно забывать, что писатель видел в христианстве средство борьбы с той же буржуазностью? Кроме того, можно говорить об атеистической тенденции в творчестве Достоевского. Атеизм прорывался через религиозные одеяния его работ языками неугасимого пламени, в котором сгорало ветхое, убогое тряпье религии, сгорало, чадя едким дымом. Погасить это пламя писатель не смог до конца жизни. Его всю жизнь "бог мучал". Одно слово инока Алеши Карамазова в ответ на вопрос, как поступить с убийцей невинного ребенка — "расстрелять!" — звучит сильнее всех жалких проповедей спасать мир непротивлением насилию. Ведь это говорит инок!
Как это ни парадоксально звучит, но именно непримиримая ненависть к капитализму ослепила Достоевского настолько, что он обвинил в грехах отживающего строя и зарождающийся коммунизм. Верховенский — носитель омерзительных нравственных принципов старого мира. В протесте против этих принципов писатель безусловно прав. Но если Верховенский — элемент органически присущий старому миру, то столь же чужероден он миру грядущей революции. Продукты распада старого общества, заражающие новую жизнь, Достоевский попросту принял за зародыши нового и потому отвернулся от нового вообще. Он сбился с пути, решив, что спасти от аморализма разлагающегося общества должна религия, освящающая в конечном счете этот аморализм, а не революция, в корне перестраивающая его антигуманные социальные отношения. В этом смысле эпиграф, взятый Достоевским к "Бесам":