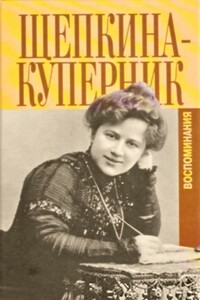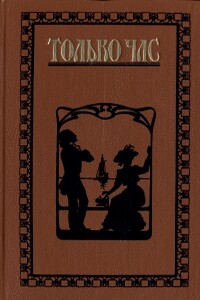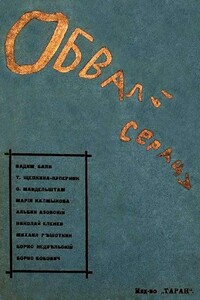Ермолова | страница 63
Ее величие, с которым она только что отвечала на приветствия народа, уступало место невыразимой грации и женственности, когда она оставалась с Фаоном наедине.
С какой-то стыдливостью Мария Николаевна говорила о своей любви и просила, как впервые полюбившая девушка, «хоть часть полученного ей вернуть». Она, великая, робко смотрела на него. Его молчание в ответ поражало ее привыкший к гармонии слух хуже фальшивой ноты. Сомнение начинало шевелиться в ней. Она страстно молила его не дать изведать ей «все ужасы отвергнутого чувства». С целомудренной лаской она обнимала его и опускала голову на его грудь. И весь зал вздрагивал от разочарования и невольной жалости к ней, когда на его почтительное «достойная жена…» – Мария Николаевна отшатывалась от него и точно со страхом говорила: «Не так! не так!.. Ужели не подсказывает сердце тебе другое имя?..» Его ответ – его рассказ, как он с детства мечтал узнать ее, как он встретился с ней, – рассказ горячий и искренний, – она слушала жадно, сперва как бы недоверчиво, потом постепенно увлекаясь его искренностью. Она принимала слова восхищения за слова любви. Отгоняла сомнения и открывала ему свою душу. Протягивая к нему руки, она признавалась ему, как ей бывало «страшно и холодно» в святилище бессмертья, и кончала словами:
Охваченный ее увлечением, Фаон поддавался ее ласке. Она должна была бы почувствовать счастье… но в голосе Ермоловой была тревога, когда она созывала рабов и указывала им на Фаона как на их господина. Удивление старца Рамнеса, наставника ее, заставляло ее сразу вспыхнуть: «Кто смеет!..» Она точно вырастала в эту минуту. Но чувствовалось, что Сафо особенно разгневана потому, что в глубине души не может не ощущать справедливости этого удивления. И уже не милостиво, а как строгая повелительница, неправоту свою скрывая под гневом, Ермолова приказывает:
Ее повелительный, суровый тон вызывал невольное смущение в Фаоне, но она оборачивалась к нему уже совсем другая. С нежностью матери она отсылала его отдохнуть от долгого пути. Она провожала его длительным взглядом, любуясь им, как произведением искусства, и готова была укорять появившуюся Мелитту, ее молоденькую воспитанницу, что та не спешила ей выразить своего восхищения им. Она делилась с Мелиттой своим счастьем, от радости готова была обнять весь мир, обещала Мелитте, что отныне они будут с ней жить, как сестры. И вдруг опять в тоне Марии Николаевны появлялось сомнение: «Что, бедная, могу возлюбленному дать?..» При взгляде на невинное личико Мелитты Сафо вспоминала свое прошлое, горько сожалея, что не может снова стать «ребенком с круглыми щеками…». С какой-то завистью и восхищением Мария Николаевна смотрела на Мелитту, потом бессильно опускала голову к ней на грудь. Она скорее самой себе, чем ей, говорила горькие слова о том, что от прошлого остались лишь одни пожелтевшие листья, и жестом, полным отчаяния, снимала с головы своей венок, золото которого казалось ей этими желтыми листьями осени. Но когда Мелитта, восторгаясь венком, говорила ей: «Меж тысячами ты одна его достигла!..» – она вдруг словно просыпалась, надевала венок и пробовала себя утешить, что в «прикосновеньи славы есть свет и мощь». «Ах, я не так бедна!» – говорила она. Тут взгляд ее падал на Мелитту, о которой она словно забыла. Она ласково отпускала ее. Мария Николаевна долго оставалась в молчании, закрыв лицо руками. Потом брала лиру и произносила стансы Афродите. Она вкладывала в них всю поэзию, таившуюся в ней, всю нежность, заливавшую ее, как лунный свет обливает мрамор.