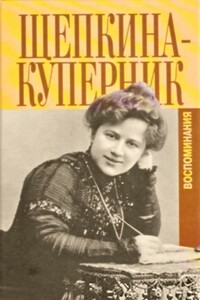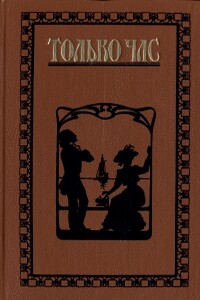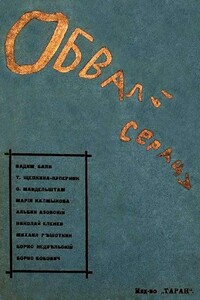Ермолова | страница 62
Ермолова делала знак рукой, один из народа восклицал:
Шум на сцене постепенно смолкал, и Сафо могла бы начать говорить, но – Ермоловой долго еще не давали заговорить. Публика в зале продолжала радостно волноваться, тщетно Ермолова делала жест, призывавший к молчанию, – взрывы восторга врывались в действие и мешали его продолжению: я поняла тогда, что такое «буря рукоплесканий».
Наконец смолкла изнеможенная публика, и Ермолова произнесла своим глубоким, взволнованным голосом:
Этими словами она как бы подчеркивала неразрывную связь Сафо с народом и то, что она себя считает принадлежащей ему. По окончании ее горячего обращения к народу растроганные граждане делились своими впечатлениями: «небесная», «посланница богов!» – восклицали они. Один из них говорил растроганно:
А мне казалось, что в театре каждый в это время думал про себя: «Это она!.. она!.. с ее изумительной скромностью». Конечно, Ермолова в те времена и была для Москвы, чем была Сафо в свое время для Митилены. Люди шли в театр смотреть Ермолову не для того, чтобы убить вечер, а для того, чтобы впитать в себя впечатления прекрасного, чтобы прикоснуться к идеалам свободы и правды, и уходили из театра просветленные теми слезами, которые она вызывала часто, зажженные тем духом справедливости, который она вызывала всегда.
История античной Сафо-поэтессы, которой «голову давил холодный лавр», по лейтмотиву своему была чем-то близким шиллеровской Иоанне д’Арк. И тут и там проводилась одна мысль: кто призван свершить подвиг, кто отдает себя своему народу – не пмеет права на личное счастье.
Пьеса Грильпарцера написана с огромным лирическим подъемом, очень хорошим языком, и, как говорит Бёрне, разбирающий «Сафо» в своих «Драматургических очерках», в ней Грильпарцер «бросил глубокий взгляд в женское сердце».
Но все это могло бы пройти незамеченным, если бы не игра Ермоловой. Тончайшую гамму переживаний, «зерно, рост, цвет, плод и увядание любви» она передавала так, что трудно было бы осознать, что это игра: казалось, что потрясенный зритель присутствовал при жизненной драме великой поэтессы.
В кульминационный момент ее торжества красавец-юноша подал ей лиру, выпавшую из ее рук, – ее взгляд упал на него, и ей, опьяненной славой, достигшей, казалось бы, венца земных желаний, вдруг стало ясно, что судьба посылает ей еще и личное счастье. И она сказала этому безвестному юноше: «Иди за мной». И он и все кругом ясно видели, что он не равен ей, только она этого не замечала, одев его всем блеском своего воображения. Спустившись с колесницы, она представляла своим согражданам Фаона, обещая им, что в нем они найдут и смелого бойца, и вдохновенного поэта, и пламенного трибуна… Чувствовалась ее безграничная вера в то, что она говорила. Она как бы торопилась поделиться с народом радостью, открывала ему, что он был «судьбой назначен отвлечь ее с высот поэзии святой в цветущие долины этой жизни…». Какой невыразимой нежностью и гордостью звучал голос Марии Николаевны, когда она обещала согражданам, что отныне в их кругу она поведет жизнь пастушки, «охотно лавр мой миртом заменив».