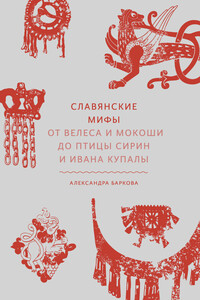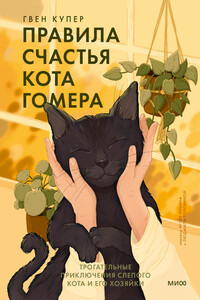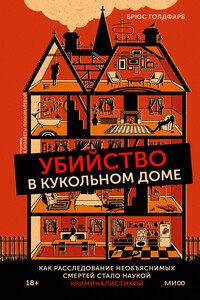В погоне за жизнью. История врача, опередившего смерть и спасшего себя и других от неизлечимой болезни | страница 44
Я был целеустремлен, как лазер, но при этом с большим удовольствием (и часто) отвлекался на походы в туалет. Почки и печень, которые не работали два месяца, наконец включились на полную мощность. Из меня текла скопившаяся в организме жидкость: за две недели я выработал восемнадцать литров мочи. Мой раздутый живот и опухшие, отечные ноги начали возвращаться в норму. Я стал весить семьдесят пять килограммов – почти на двадцать три килограмма меньше, чем в момент госпитализации в Пенсильвании. Такой вес у меня был лишь в старших классах, и я не думал, что когда-нибудь приду к нему вновь. Но это случилось. Поразительно: я ходил по-маленькому и благодаря этому обретал форму.
А потом я опять начал уставать.
Глава восьмая
Иммунная система удивительно сложна.
Из-за этого попытки описать, что именно и как она делает, быстро сталкиваются с проблемой: любые метафоры оказываются слишком бедны. Вспомните обычный урок биологии в старших классах. Многие авторы учебников искренне пытаются рассказать об иммунной системе понятным языком. Она похожа на систему сигнализации. Или на электрическую сеть. Или на экосистему. Или на армию. Последнее, наверное, уместнее всего, и я встречал такое сравнение бесчисленное количество раз. Наш организм – крепость, а лейкоциты – полчище специально обученных солдат, головорезов, которые выслеживают вторгшиеся патогены и раковые клетки. Остальное достраивается само собой. Там – линии связи. Здесь ведутся сражения. Есть победители и побежденные.
Может быть, образы войны слишком драматичны, однако, судя по имеющейся у нас информации, они довольно точно отражают действительность.
Например, на поверхности наших иммунных клеток имеются рецепторы, которые умеют отличать врагов от друзей. Это основа всего механизма, и мы неплохо ее понимаем. К сожалению, как и при любой настоящей гонке вооружений, многие клетки-противники в ходе эволюции научились маскироваться и даже мимикрировать – имитировать здоровые клетки. Но когда этот прием не срабатывает и иммунные клетки организма успешно выявляют врага, они выделяют особые молекулы – цитокины, которые инициируют целый ряд шагов:
1. Предупреждают другие иммунные клетки о появившейся угрозе.
2. Сообщают специализированным иммунным клеткам-киллерам, что можно перейти в режим нападения.
3. Привлекают в пораженную область прочие клетки.
4. И наконец, решают, когда атаку следует прекратить.
Если любое звено в цепи этих иммунных реакций подведет – скажем, прозвучит ложный сигнал тревоги, клетки-киллеры начнут охотиться за неправильной целью или не получат сигнал к остановке, – почти наверняка пострадают здоровые клетки. Достаточно всего одного неверного шага. А теперь подумайте: каждый из четырех простых шагов, перечисленных выше, состоит из тысяч более мелких шагов и связей, которые, в свою очередь, представляют собой результат сложного взаимодействия тысяч генов и сотен молекул; последние связываются с определенными клеточными рецепторами и активируют клеточные процессы, ведущие к выработке других молекул. Сигнал по цепочке раздражителей передается до самого конца. Затем по другой цепочке назад идет сигнал обратной связи – сообщение о том, следует ли продолжать действия или остановиться. Все эти процессы происходят одновременно в миллиардах иммунных клеток, относящихся к сотням разных типов. Сказать, что событий много, – это ничего не сказать.