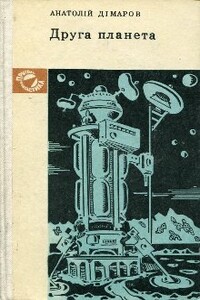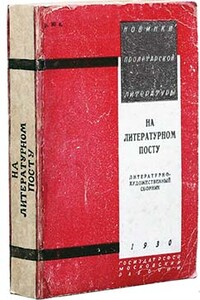И будут люди | страница 72
Отец вернулся каким-то чужим, еще более суровым и неприветливым, нежели был восемь лет тому назад. Еще тогда прозвали отца по-уличному «басурманом», «турком», хотя отец всегда ходил в церковь. И не раз и не два злобно бросался маленький Оксен в драку, услышав эти позорные прозвища.
Помнит, как однажды, вернувшись домой после очередной такой стычки, спросил отца:
— Тату, а чего они нас не любят?
Отца, казалось, нисколько не удивил вопрос Оксена. Вогнав в колоду топор, он выпрямился, серьезно ответил:
— Потому, сын, что нам завидуют.
— А чего завидуют? — никак не мог понять Оксен.
— Потому, что мы — хозяева, а они — голодранцы. Так уж на этом свете ведется, сын: кто умнее, богаче, тому и завидуют, того и не любят.
— И бьют?
— А ты тоже не смотри в зубы, — поучал отец мальчика. — Тебя бьют, а ты сдачи давай. Тебя ударят раз, а ты его два раза. Теперь, сын, такая жизнь, что, если не будешь держаться на ногах, враз наземь собьют, в землю втопчут…
— Меня не собьют, я сам всех их посбиваю! — похвалился Оксен.
Скупая одобрительная усмешка промелькнула на твердых губах отца. Он оглядел крепкую фигуру сына, заметил воинственные огоньки в серых глазах, ласково ответил:
— Вот так, сын, и живи: не жди, пока тебя первого ударят. В нашем деле кто повалил, того и верх, за того и царь и закон.
Много, очень много лет прошло после этого разговора. Оксен вырос, женился, уже и сам поучает детей, как жить на белом свете, а и до сих пор помнит эти отцовы слова, ставшие для него вторым евангелием. И пусть его ненавидят, как когда-то отца, пусть на него перешло, прилепилось к нему это басурманское прозвище, он ни на йоту не поступится своим, не отдаст, не выпустит из рук, выдерет из горла.
Вернувшись с каторги, Свирид как-то отошел от хозяйства. Стал разводить пасеку. Вначале сажал пчелиные рои в колоды, со временем привез из Яресек несколько ульев, а потом и сам стал их мастерить — ставить под развесистыми яблонями аккуратные пчелиные домики. Построил хороший курень и, как только становилось теплее, перебирался туда. Не приходил домой даже поесть; еду ему носили внуки, а порой и Олеся. Шли узкою тропинкой по саду через густой вишенник и попадали на пасеку, где стояли строгие шеренги ульев с летками, повернутыми к солнцу.
Здесь было чисто, как в доме на рождество или на пасху. Нигде ни соринки, тщательно выкошенная трава стлалась ровным ковром, алебастрово отсвечивали побеленные известью стволы яблонь, солнечные блики не метались испуганными зайчиками, а спокойно ложились золотой фольгой, и детям казалось, что дед прикалывал их к траве, деревьям и ульям. Тут даже задиристый ветер боязливо складывал свои широкие крылья, тихонько покачивался на ветвях деревьев, со страхом поглядывая на широкоплечего хмурого человека, который медленно похаживал в пчелином царстве своем, оглядывая ульи.