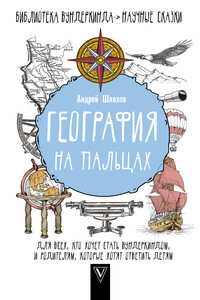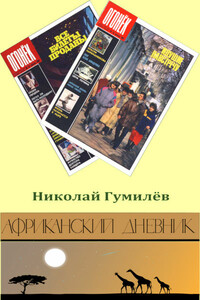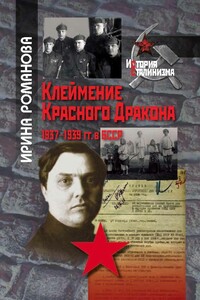Интеллигенция в поисках идентичности. Достоевский – Толстой | страница 53
Его дискурс бинарен: либо речь идет о народно-православных идеалах, либо об отрицательном – рационально-научном языке интеллигенции. Созданные писателем мифообразы легли в основание не только общественного мнения, но и многих идеологических установок эпохи, став важными компонентами национального, патриотического и религиозного мировоззрения.
Для противопоставления двух логик, писатель использует субъективный критерий различения святого от грешного, преступника от жертвы. Писатель создал принцип проникновения в тему-проблему через собственные переживания, личную заинтересованность, «тактильное ощупывание» проблемы всеми органами чувств, преломление логики фактов в логике чувств, духа и тела. Писатель «подает» факты так, как ему хочется, постоянно морализуя, сознательно обнажая и заостряя «идеологичность» созданных им текстов. Ему важен не просто «объективный» факт сам по себе, он стремится передать его, сохраняя всю его религиозно-нравственную аксиологическую значимость. Субъективность и идейность, лежащие в основе дискурсивных «обобщений», стали основой индивидуального мифотворчества писателя.
Было бы ошибочным искать традиционный православный язык или символику в его произведениях. Не найдем мы в них функционирующую церковь (службы), святых икон или обрядовых действий (этим он существенно отличен от Толстого). В его текстах религиозные догмы теряют свой изначальный смысл и обретают новый, возникший в индивидуальном мифотворчестве писателя. Реальность Достоевского носит ярко выраженный семиотический характер. Необходимо отделять автора-Достоевского, который использует в своих произведениях религиозные идеи и символы от личности Достоевского, открыто выражавшего свою приверженность русской православной церкви, ее ценностям и обрядам