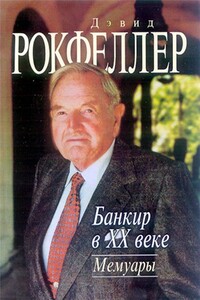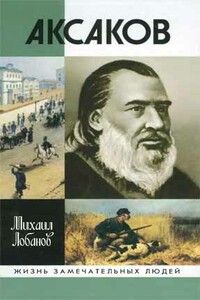Homo ludens | страница 52
Интерес к ранее табуированным именам и темам перекрыл внимание к писателям-генералам. По инерции, как-то вяло и нестерпимо скучно еще устраивались конференции, посвященные Героям соцтруда – Шолохову, Погодину, Леонову, Маркову. Но им на смену уже спешили те, кого мы любили и хотели изучать, кто вопреки всему действительно сохранял «гуманистические традиции русской классической литературы», – Бунин, Ремизов, Булгаков, Платонов, Замятин, Бабель, Пильняк, Зощенко, Солженицын, Гроссман, Трифонов и др. Словом, Институт встрепенулся и уже был готов, как казалось, совсем распрощаться со своей тяжелой наследственностью.
Но не тут-то было. Далеко не все сотрудники, особенно из начальствующих, радовались забрезжившей свободе. На всех площадках Института, вплоть до Ученого совета, начались словесные драчки, которых так называемая академическая среда в СССР сроду не знала. В этих схватках участвовал и я.
Именно в те дни и месяцы надежд мы по-настоящему сблизились и подружились с Зиновием Самойловичем. Встречались часто, поэтому знаю, что обновленческая лихорадка захватила и его. Только, в отличие от меня, он не произносил громких слов, не кипятился. Разобравшись в ситуации, он поступил мудро: не тратя сил на словесные баталии, составил программу мероприятий по изучению творческого наследия О. Э. Мандельштама. Сколотил институтскую инициативную группу, куда вошли, кроме самого З. С., я и, от мандельштамовской Комиссии при Союзе писателей, Павел Нерлер. В результате 24–26 января 1988 года в ИМЛИ прошли первые Мандельштамовские чтения. За три дня было заслушано около пятидесяти докладов. В конференции участвовали русские и зарубежные филологи.
Более того, на основе материалов конференции мы тут же приступили к работе над сборником публикаций и исследований о поэте. В 1991 году труд «Слово и судьба. Осип Мандельштам» вышел в свет. В нем представлены статьи более трех десятков исследователей. Среди них: В. Швейцер, А. Немировский, Ю. Фрейдин, Е. Эткинд, С. Аверинцев, В. Микушевич, Е. Завадская, В. Мусатов, Ю. Левин, Т. Сурганова, С. Марголина, М. Гаспаров, Д. Магомедова, Г. Померанц, А. Жолковский, О. Ронен, Л. Кацис, Э. Рейнольдс, П. Нерлер и др.
Благодаря нашим усилиям в ИМЛИ в центр научных исследований постепенно выдвинулась фигура Мандельштама. Не все были довольны этим обстоятельством. Сталинисты, которых мы сегодня называем патриотами, всячески противопоставляли писателям-«инородцам», «космополитам», западникам писателей-народников (Шолохова, Алексеева, Закруткина, Иванова, Распутина, Белова и т. д.).