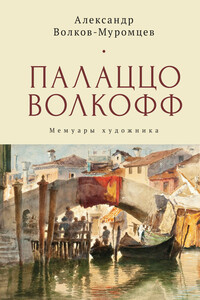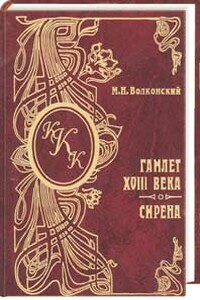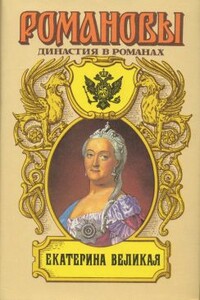На всемирном поприще. Петербург — Париж — Милан | страница 123
— Наконец-то! — вскричала Далия, узнав тотчас же почерк Роберта. — Посмотрим, что-то он пишет в свое оправдание.
Разорвав конверт, она подошла к окну и принялась разбирать писание своего друга, не отличавшееся особенными каллиграфическими достоинствами. «Милая», — так начиналось письмо… Ну, это понимаю. «Генуя, 14 апреля»… Генуя? Он пишет из Генуи. Что это значит? Роберт в Генуе! Так, вдруг, ни слова не сказавши… Ну, ладно. Посмотрим, что дальше. «Когда ты получишь это письмо, я буду уже в открытом море». В море! Пресвятая Мадонна! Но куда же он едет, зачем? В каком это море? — У бедной девушки глаза наполнились слезами и письмо задрожало в ее руках. Оправившись, она продолжала: — «Как только прибудешь на место, напишу тебе обо всем подробно. Тогда узнаешь всё, теперь же ничего не могу сказать тебе по той простой причине, что сам ничего не знаю. Не беспокойся обо мне. Я совершенно доволен своей судьбой. Разлука наша будет непродолжительна. Мы снова встретимся, чтоб не расставаться более никогда. Прощай, моя милая; думай обо мне и не грусти. Гарибальди с нами, и этого довольно. Прощай еще раз. Твой Роберт».
Далия опустила письмо и несколько минут стояла, устремив глаза на окно, не будучи в состоянии связать кружившихся в ее голове предположений и догадок, вертевшихся, как рой пчел вокруг корзины цветов. Затем, взяв снова письмо, она прочла его до того места, где сказано: «с нами Гарибальди», и почувствовала, что ей стало легче на сердце, — таково обаяние этого имени, таково безграничное доверие, которое питает к нему народ.
— Пусть будет, что будет![197] — воскликнула Далия с печальной, но безропотной покорностью судьбе. — В следующем письме он мне напишет всё, как следует… Ну, да ведь я должна была знать, что мой Роберт не будет сидеть сложа руки, в то время, когда его товарищи и друзья гарибальдийцы идут навстречу смерти[198].
Глава V. Шпион
Это было ночью, 3-го апреля 1860 года. Граждане Палермо возвращались по домам с прогулки вдоль морского берега. Лавки были уже заперты и улицы безмолвны. Не слышно было ничего, кроме плеска волн, разбивавшихся о каменную набережную.
Из калитки, пробитой в высоких стенах монастыря Ганча[199], тихонько вышел монах. Сделав несколько шагов, он остановился и стал подозрительно осматриваться по сторонам, не пропуская ни одного темного закоулка, чтобы удостовериться, что никто его не видел. Затем он надвинул еще ниже капюшон и засунул правую руку в рукав левой, где нащупал ручку стилета, с которым никогда не расставался. Бросив еще раз внимательный взгляд вокруг, он быстрым и легким шагом стал спускаться по каменистому скату горы, на которой стоял монастырь.