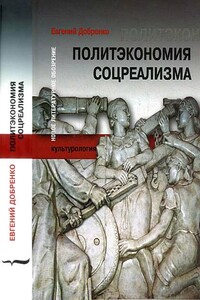Революция от первого лица. Дневники сталинской эпохи | страница 44
Этот первый американец, которого я когда-либо видела, был похож на беспризорного мальчишку. Я увидела в нем продукт капиталистического угнетения. Перед моим умственным взором предстало его безрадостное детство; я представила себе долгие часы бесчеловечного труда на каком-то капиталистическом предприятии, которые он был вынужден отрабатывать еще мальчиком; я вообразила позорно низкую зарплату, которую ему приходилось получать, чтобы купить немного хлеба и быть в состоянии работать на следующий день; я вообразила, как он боялся потерять даже это скудное вспомоществование и оказаться на улице без работы в случае, если не сможет выполнять свою работу к удовольствию и выгоде паразитов-хозяев[92].
Драматург Всеволод Вишневский считал своей «задачей» вести дневник, чтобы «сохранить для истории наши наблюдения, нашу сегодняшнюю точку зрения — участников». Читая об исторических «ошибках и победах» автора и его современников, будущие поколения должны были утвердиться в своей приверженности делу построения идеального коммунистического общества[93].
Даже дневник, который сам автор расценивал как ежедневную бытовую хронику, имел историческое измерение. Николай Журавлев, сотрудник архива из Калинина (Тверь), хотел создать последовательное описание «нормальных [дней] нормального человека» для будущего историка города и советского быта. Характерно, что Журавлев начал описание обычной жизни с необычного события — 800-летия со дня основания города. То, что Журавлев придавал историческое значение своему проекту, видно из описания шествий и выступлений, происходивших в тот день: «Так праздновать могут только в стране социализма! Помню я эти официальные „торжества“ при царизме… А наш праздник доподлинно массовый, доподлинно народный праздник…» Он пытался документально показать, что советский быт качественно отличается от прежнего, преображен революцией — в соответствии со сталинским утверждением о том, что быт был революционизирован[94].
Представление о том, что дневник должен быть ориентирован на историю, чтобы стать легитимным личным документом, отражено и в упреках, которые авторы этих дневников обращали на самих себя за то, что им не удалось добиться такого акцента. Завершая первую же запись в своем дневнике, который в течение нескольких следующих лет будет посвящен в основном несчастной любви к девушке по имени Катя, московский комсомолец Анатолий Ульянов упрекал себя за «тупую» неспособность связать дневник с более значительной жизненной целью: «Правильно ли выражение, что дневник — мещанство? Я считаю, что это и правильно, и неправильно. Если писать только о любви, о своих любовных страданиях, это, пожалуй, и будет паскудной мещанской выходкой». Осознавая, что он сам в той или иной степени заражен чем-то подобным, Ульянов клялся перестать «заниматься „болтологией“, в дневнике воспроизводить только действительность». Под нею он подразумевал «жизнь, о которой люди пишут книги», жизнь героев, созидающих новый социалистический мир. Пока же в его дневнике, наоборот, «мало написано о самой сути существования»