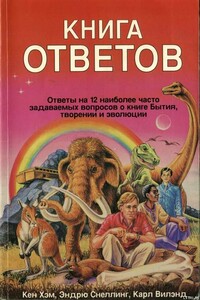Князь Владимир и истоки русской церковной традиции. Этюды об эпохе принятия Русью христианства | страница 69
Сага об Эймунде долгое время оставалась незаписанной, из-за чего процесс превращения сказания в эпическое произведение оказался практически завершен. Поэтому образы героев должны были быть подогнаны под законы эпического жанра[353]. В данном случае главные герои – три брата, каждый из которых правит в своем городе. Имеются также три атаки Бурицлейфа, три совета Эймунда, три отказа Ярицлейфа платить варягам – дань фольклорным художественным формам[354]. Аналогичным образом трансформировался сюжет и о призвании братьев Рюрика – Синеуса и Трувора, каждый из которых занял отдельный город[355]. Несмотря на эпичность сюжета, историки без особых проблем вычленяют и в нем рациональное зерно[356]. Даже в более сложных случаях можно реконструировать исторические реалии, повлиявшие на развитие сказочного сюжета[357]. В случае Саги об Эймунде действующие лица исторической драмы должны были объединиться в трех героев. Наиболее угадываемая фигура – Ярицлейф-Ярослав. Вартилав – соединение образов Брячислава Изяславича Полоцкого, внука Владимира Святославича (поскольку Вартилав сидит в Полоцке), и Мстислава, оставившего Ярославу свой удел[358]. Бурицлейф как соперник Ярицлейфа, выступавший против него на поле боя, безусловно, Святополк. Убийство же Бурицлейфа очень похоже на смерть святого Бориса, налицо также сходство их имен. Именно этой расстановке сил, содержательной сути Саги об Эймунде и можно доверять: Ярослав выступает против Святополка и Бориса с помощью наемной варяжской дружины. Вартилав – фигура противоречивая именно потому, что реальный Брячислав был на стороне Святополка, занял Новгород в отсутствие Ярослава, а Мстислав после раздора с Ярославом примирился с ним и «начаста жити мирно и в братолюбьстве»[359]. Более того, думается, что подобному сопоставлению можно было бы подвергнуть и еще два образа – Якуна, «князя варяжска», и Эймунда.
Сомнения в доверии древнерусским источникам имеют двойное основание. Во-первых, русский автор, будучи зависим от княжеской власти, не смог бы не учесть ее пожеланий относительно содержания рассказа о столь нашумевшей истории. В Сказании о Борисе и Глебе и в рассказе Повести временных лет проводятся две смысловые линии: непротивление Бориса убийству, совершаемому старшим братом, и готовность отдать ему власть, а также противопоставление Святополка Борису, как Каина Авелю