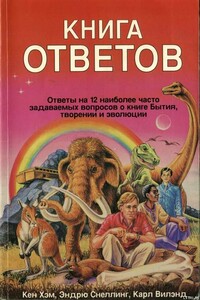Князь Владимир и истоки русской церковной традиции. Этюды об эпохе принятия Русью христианства | страница 68
Сомнения в достоверности отечественных житийно-летописных источников основываются на противоречивости и нелогичности, по крайней мере, некоторых фактов, в них присутствующих. Например, согласно Повести временных лет, Глеб, получив от Святополка, по всей видимости, в Муроме притворный вызов в Киев, двигается сначала «на Волгу» (от Мурома кратчайший путь до Волги – 150 км), где происходит заминка с конем, а затем на ладьях плывет к Смоленску (еще 1120 километров, если плыть по Волге). Если учесть время движения гонца от Святополка (от Киева до Мурома почти 1000 км), выехавшего не ранее 16 июля, едва ли весь этот путь можно проделать к 5 сентября, когда, согласно Сказанию о Борисе и Глебе, муромского князя убивают. Но у этого разнонаправленного пути должна быть логика. Если вспомнить, что Глеб – сын болгарыни, то «на Волгу» он мог двигаться до Волжской Булгарин (от Мурома – 600 км). Даже если предположить, что Глеб не задержался там, что маловероятно, он опоздает ко дню своего убийства под Смоленск не менее чем на два-три месяца. Если же учесть его пребывание на родине у матери, то убит он был 5 сентября следующего, 1016 года, когда Святополк был уже в Польше, а Ярослав – в Киеве. Учитывание особенностей исторической географии позволяет, с одной стороны, задать новые вопросы, а с другой – сделать выводы более убедительными.
В контексте сказанного особенное значение приобретает жанровое различие имеющихся источников по проблеме.
Скандинавская Сага об Эймунде, которую в качестве источника привлекают противники традиционной точки зрения, действительно содержит противоречие в основном сюжете, когда в образе Бурицлейфа объединены два исторических персонажа – Святополк и Борис. Смешение образов – характерная особенность эпоса.
Разнообразие и убедительность доводов, которыми подтверждается позиция историков, доверявших Саге об Эймунде, убеждают в их правоте. В самом деле, эпос является весьма продуктивным источником информации, что особенно наглядно показали работы Дж. Фрэзера и В. Я. Проппа[350], однако, думается, основная сила эпоса не в этом. «Ядро сюжета эпоса остается неизменным, мало изменяется и его толкование, не вводится почти новых персонажей, тем более эпизодов, да и бытовые черты лишь осовремениваются, а новых не появляется»[351]. Главное – расстановка сил, противостояние действующих персонажей эпос сохраняет как свою основу, и ей мы можем доверять. Сюжетные детали и характеристики героев, порой бытовые, служат для узнавания читателем известного ему лица