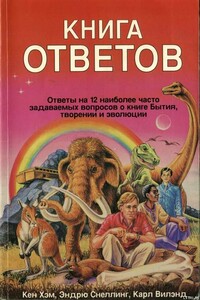Князь Владимир и истоки русской церковной традиции. Этюды об эпохе принятия Русью христианства | страница 67
Таким образом, можно наблюдать не только искусственность внедрения в летопись рассказа о Борисе и Глебе, которого не было в летописи до составления Повести временных лет, но и то, что сами события смуты 1015–1019 годов не связывались изначально с мучением младших сыновей Владимира. Это подтверждается тем, что все прочие источники о смуте – немецкая Хроника Титмара и польская хроника Галла Анонима в рассказе о смуте 1015–1018 годов – не упоминают о Борисе и Глебе. Более того, даже автор Чтения о Борисе и Глебе не поставил убийство
Бориса и Глеба в связь с последующими событиями, рассмотрев его как частное дело между Святополком, с одной стороны, и с Борисом и Глебом – с другой[345].
Это наблюдение о некоторой «несовместимости» рассказов о смуте 1015–1019 годов и рассказа об убийстве Бориса и Глеба обладает несомненной важностью для решения вопроса о достоверности источников о событиях 1015–1018 годов. Если все борисоглебские памятники возникли не ранее 70-х годов XI века и не отразили, например, диспропорции в их почитании, относящейся к середине XI века, то они и не могут в точности соответствовать исторической действительности[346].
Если внимательно вчитаться в работы историков, защищающих достоверность событий, изложенных в летописно-житийных памятниках о Борисе и Глебе, можно обратить внимание на то, что в большей или меньшей степени в них отвергаются: 1) историко-политическая логика и соображения целесообразности[347]; 2) достоверность скандинавских источников, кстати лишенных какой-либо политической ангажированности[348]; 3) наличие противоречий в летописно-житийных памятниках, иностранных письменных источниках и археологических данных; 4) наличие параллелей со сказаниями о Вячеславе Чешском, свидетельствующих о западно-христианских параллелях, в контексте которых возложение ответственности целиком на «западника» Святополка оказывается затруднительным[349]. Но зато традиционно ориентированные историки признают только одно: неподсудность текстов поздней фиксации событий, зависимых от мнения княжеской власти и общественных стереотипов и предрассудков, каковыми являются русские письменные источники.