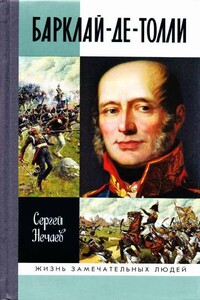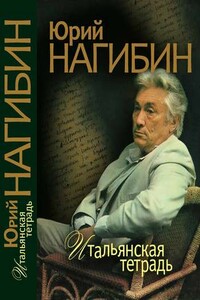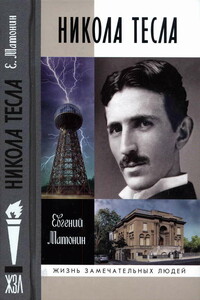Марийский лесоповал: Врачом за колючей проволокой | страница 19
Здесь было все иначе. Может быть, потому, что в этой колонии в основном содержались местные жители с небольшими сроками, осужденные чаще всего по бытовым статьям. Уголовников было мало — несколько карманников, да еще Пшеничников и его лагерная жена Галя.
Вольнонаемных, кроме фельдшера Тухватуллиной, я видел редко, так же как и охранников.
Среди последних выделялся деревенский мужик лет сорока пяти в звании старшины, физиономия которого была на редкость тупая. Прямоугольная голова, квадратная челюсть, выступающие скулы и плоский нос, да редкие волосы делали его похожим на Угрюм-Бурчеева из «Города Глупово» Салтыкова-Щедрина.
Когда прибывал этап, старшина обходил зэков и задавал всем один и тот же вопрос: «Могай район?» (марийск.— из какого района?). Поэтому в зоне его называли не иначе, как «Могай район».
Он строил из себя большого начальника, любил ходить по зоне и заглядывать в каждый уголок, надеясь найти какие-нибудь неполадки: паутину на потолке в столовой, немытый пол в бараке, грязную посуду на кухне и зэков, которые без дела шатаются по баракам.
С особым азартом он охотился за любовными парами и обыкновенно с наступлением темноты отправлялся на их поиски. Радости его не было предела, когда ему удавалось поймать где-нибудь в тамбуре парня, обнимавшего свою девушку. Тогда он чувствовал себя героем, совершившим подвиг, или полководцем, выигравшим важное сражение.
За такие грехи зэки попадали в карцер, чаще всего дней на пять. А вообще охранники не производили впечатления врожденных извергов и садистов. Чаще всего это были немолодые деревенские мужики, которых мобилизовали на такую службу, или же не нашедшие себе поблизости другой работы.
Их никак нельзя было сравнить с конвоирами-хохлами, которые сопровождали нас по этапу из Москвы в Казань в 1941 году. Те не знали жалости и били деревянными молотками по спинам зэков, которые в товарняках во время проверок не слишком быстро передвигались.
Я всегда с особым интересом изучал лица и поведение всех тех, кто трудился в тюрьмах и лагерях. Я всякий раз задавал себе вопрос: что заставило их выбрать себе такую работу? Желание исправить людей или карать их? Сочувствие? Жалость?
В Таганке, Чистополе и во время этапа я видел надзирателей и конвоиров, которые ненавидели заключенных, и на лицах которых выражалась злоба и жестокость.
Чаще всего, однако, я видел на лицах сотрудников тюрем и лагерей выражение брезгливости, презрения, а то и отвращения.